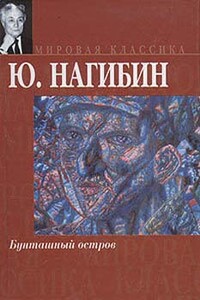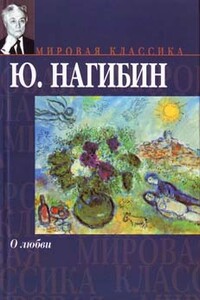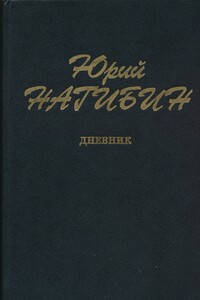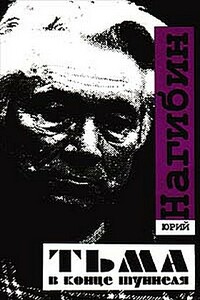Повесть о том, как не ссорились Иван Сергеевич с Иваном Афанасьевичем | страница 14
Иван Сергеевич тяжело задумался. Он хотел сделать подарок младшему по званию, но возникло неожиданное препятствие. Какое — он сразу забыл. А подарок?.. Запамятовал, упустил. Потом упустил своего сотрапезника и все окружающее. Его объял странный сумрак, прорезанный стрелами огня. И хотя огонь метил в него, страха он не испытывал, было покойное чувство полной защищенности. Сильным вздрогом, от которого чуть не свалился со стула, Иван Сергеевич вернулся к яви из короткого, всего несколько мгновений, но чудно освежившего сна. И сразу восстановил распавшиеся связи.
— Фронт без тыла — никуда. Трудом своих детских рук ты помогал нам бить врага.
Он поднял рюмку и, расплескивая, потянулся к Ивану Афанасьевичу. Тот повторил его жест, они сплели руки, выпили и поцеловались мокрыми губами.
— Пошел к черту! — сказал Иван Сергеевич.
— Пошел к черту! — сказал Иван Афанасьевич.
Они строго, даже церемонно начали свое застолье, но не были бы русскими людьми, если б до конца остались застегнутыми на все пуговицы. Какое там! Ведь у нас не встают из-за стола, а вываливаются. Последнее не грозило двум Иванам, они долго чинились, не гнали горячку, старательно заедали каждую рюмку, вели хороший разговор и, растянув во времени свое пиршество, сохраняли форму. Конечно, без легких безобразий все же не обошлось. Большая часть пришлась на долю Ивана Сергеевича, сильнее захмелевшего. Он разбил фужер, угодил рукавом куртки в маринад, пролил пиво на скатерть. Иван Афанасьевич ответил на все его бесчинства лишь тем, что прожег майку раскаленным сигарным пеплом. Он был человеком некурящим, но тут запалил гаванну из милого мальчишества. Эта сигара входила в подарочный набор «Лакомка», который выдавали в День милиции ветеранам. Сам он не обгорел, а про майку сказал:
— Хер с ней.
После обряда брудершафта, очень взбодрившего Ивана Сергеевича, он решил завершить все протокольные дела, установив, как они будут обращаться друг к другу:
— Я тебя «Ваня», ты меня «Ваня» — смешно, да и запутаться можно.
— Меня на работе Афанасьичем звали, — застенчиво сказал Иван Афанасьевич.
— Подписано! — вскричал Иван Сергеевич. — Я тебя «Афанасьичем», ты мне — «Сергеич».
Они выпили за это. Какая-то грусть вдруг нахлынула на Ивана Сергеевича — видать, растревожили старые воспоминания. И осталась в душе обида, что друг не захотел выслушать его любовную исповедь.
«Очнись! — донесся сигнал из сохранившегося участка сознания. — О чем ты рвешься ему рассказать? О том, как Сталин и Берия всю ночь насиловали несчастную женщину, а потом кинули ее, словно кость, своей своре, и ты осквернил вслед за другими полумертвое женское тело, прежде чем его сожгли в домовом крематории? Молчи, забудь об этом позоре. Считай, что это привиделось в больном кошмаре. Пусть так, и все-таки не было у тебя ничего пронзительнее и прекраснее за всю твою жизнь. Она лежала, как труп, а внутри было горячее электричество, и ты расплавился в его жаре. И что-то случилось с тобой навсегда, больше не было даже слабой тени того переживания, и постепенно пропал вкус к женской близости. Но стоило вспомнить о том страшном утре, стоило вспомнить распростертое на полу обнаженное тело, как охватывало нестерпимое, болезненное желание, и ты гасил его в вялом естестве жены. А потом и это стало ненужным, но воспоминание не исчезло и все так же жжет неутолимым влечением и тоской».