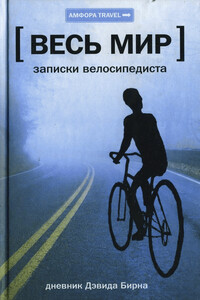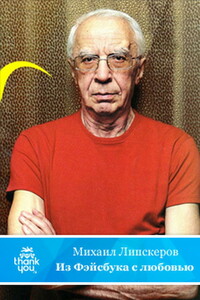Под юбками Марианны | страница 21
— Самая большая твоя проблема — что ты уехала из России, но не приехала сюда. А теперь уедешь отсюда — но не приедешь в Россию, — предрек я.
— Я не знаю, — призналась Галина, — может, и так. Но я попробую. Здесь мне нечего терять. А там — может быть, я найду что-то.
Я посмотрел на то, как она заправила волосы за ухо, чтобы они не мешали рыться в чемодане, я подумал, что не так, совсем не так должен был начаться мой роман. Если бы во мне было чуть больше смелости, то нашими с ней отношениями мой роман бы и ограничился. Но я струсил.
Ла Мюэтт
К семи часам пришла гроза. Шум внезапного отвесного летнего ливня оглушил нас. Острые капли мгновенно исполосовали окно, оставив после себя след, состоящий из мельчайших крупинок. Мы бросили приготовления, отворили настежь окно и, как зачарованные, смотрели на торжественное буйство природы, на быстро убегающие ручейки, слабо колышущиеся ветви деревьев и застигнутых врасплох прохожих. Проезжающие по проспекту автомобили и трамваи будто пробирались сквозь тропический лес и отражались в каждой капле из легиона, торжественно атакующего город. Этот дождь был как чудесное избавление от всей тяжести дня, от духоты и недобрых мыслей. Сразу стало легче дышать.
В распахнутое окно вломился ветер и сдернул лежащие на столе бумаги, мусор и прочий хлам. Я кинулся подбирать, оставив Галину у окна. Закончив, я вернулся и искоса взглянул на нее. Она была недвижима и глядела на дождь. В глазах у нее стояли слезы. Что творилось у нее в душе? Мне хотелось помочь ей, но я чувствовал себя беспомощным, как будто заблудшим. Может быть, в ту минуту наши мысли сходились? Мы были чужаками не только этой стране, но и друг другу.
От волнующего созерцания нас отвлек звонок с улицы — пришли Эдвард с Ольгой, совершенно вымокшие, — они бежали от станции до нашего корпуса под ливнем.
Моего самого близкого друга в Париже почему-то все называли Эдвардом, на иностранный манер. Возможно, это было связано с его ранними публикациями в англоязычной прессе. На самом-то деле, конечно, он был Эдуардом, но это имя какое-то слишком официозное и одновременно — потасканное, а на «Эдика» или тем более «Эдичку» он всерьез обижался.
Эдвард прибыл в Париж на семь лет раньше меня и уже являлся счастливым обладателем французского гражданства. За эти семь лет он успел повидать многое, но не любил обо всем рассказывать. В свои теперешние тридцать два года иногда в шутку сетовал, что скоро — возраст Христа, а нечего предъявить вечности.