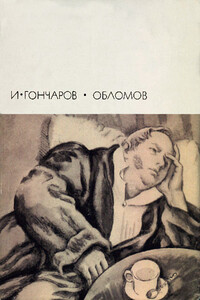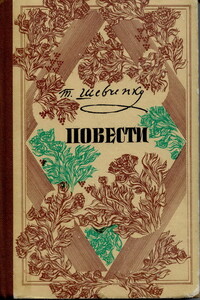Кобзарь | страница 78
на многие лета.
136
На потоках Вавилонских,
под вербами в поле,
сидели мы плакали
в далекой неволе,
и на вербы повесили
органы глухие,
и, смеясь, нам говорили
едомляне злые:
«Спойте песню вашу, может,
мы тоже заплачем,
или же вы нашу спойте,
невольники наши».
Какую же будем петь мы?
Здесь, на чужом поле,
не поется веселая
в далекой неволе.
Если я забуду стогны
Иерусалима,
забвен буду, покинутый,
рабом на чужбине.
И язык мой онемеет,
высохнет, лукавый,
если помянуть забуду
тебя, наша слава!
И Господь наш вас помянет,
едомские дети,
как кричали вы: «Громите!
Жгите! В прах развейте!
Сион святой!» Вавилона
смрадная блудница!
Тот блаженен, кто заплатит
за твою темницу!
Блажен, блажен! Тебя, злую,
в радости застанет
и ударит детей твоих
о холодный камень!
149
Псалом новый Господу мы
и новую славу
воспоем честным собором,
сердцем нелукавым;
во псалтыри и тимпаны
грянем, воспевая,
как карает Бог неправых,
правым помогая.
Преподобные во славе
и на тихих ложах
радуются, славословят,
хвалят имя Божье.
И мечи, мечи святые
им вложены в руки
для отмщения неверным
и людям в науку.
Закуют царей кровавых
в железные путы,
им, прославленным, цепями
крепко руки скрутят.
И осудят губителей
судом своим правым,
и навеки встанет слава,
преподобным слава.
Лилея
«За что меня, как росла я,
люди не любили?
За что меня, как выросла,
бедную, убили?
За что они теперь меня
в дворцах привечают,
царевною называют,
очей не спускают
с красоты моей? Дивятся,
меня ублажают!
Брат мой, цвет мой королевский,
ответь, умоляю!»
«Я, сестра моя, не знаю», —
и, сестру жалея,
королевский цвет склонился;
наклонился, рдея,
он к белому, поникшему
личику лилеи.
И заплакала Лилея
росою-слезою...
Заплакала и сказала:
«Братец мой! С тобою
мы давно друг друга любим,
а не рассказала,
как была я человеком,
сколько я страдала...
Мать моя... о чем она,
о чем так скорбела,
на меня, на свою дочку,
смотрела, смотрела
и плакала... Я не знаю,
мой любимый братец,
кто принес ей столько горя?
Я была дитятей,
я играла, забавлялась,
а она все вяла;
да нашего злого пана
кляла-проклинала.
И умерла... А меня пан
воспитал, проклятый.
Я росла и подрастала
в хоромах, в палатах
и не знала, что я дочка,
дочь его родная.
Пан уехал в край далекий,
меня покидая.
И прокляли его люди,
хоромы спалили...
А меня, за что — не знаю,
убить не убили,
только длинные мне косы
остригли, накрыли
меня, стриженую, тряпкой, —
еще и смеялись;
а евреи и те даже
на меня плевали.
Так-то вот на свете, брат мой,
со мной поступали.
Молодого, короткого
мне дожить не дали
люди веку. Умерла я