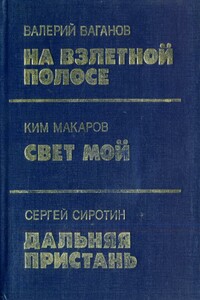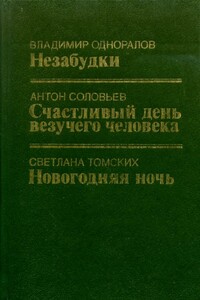Признание в Родительский день | страница 52
— Как же так? — Шурочка села напротив. — Поехал и не проверил ничего. Хоть бы меня попросил — вместе бы посчитали. Деньги-то есть?
— Немного, — почему-то соврал я. Денег у меня не было.
— Я дам тебе двадцать рублей. На фрукты взяла, да ладно, в другой раз привезу. У Семеныча сколько-нибудь перехватишь — отдашь по приезде. И смотри маленько, — Шурочка понизила голос, — шеф у нас на руку не чист.
«Что же делать? — тупо било в моей голове. — Пойти разбудить Семеныча? Денег у него я, конечно, просить не буду, разве что разобраться, что к чему. Но торговля — не шахта. А шеф позаботится о том, чтобы я остался в еще большем долгу. И в конце рейса, пожалуй, подбив у себя бабки, вызовет в ресторан кого следует».
— Будешь умнее в другой раз. — Фисонова была чуть ли не рада. — А то, понимаешь, придут с буя-ветра, начинают здесь…
Наверняка шеф сам отключил холодильник. Но как докажешь? А деньги сегодня к вечеру надо найти. Ну и влип…
Придется, видно, продать душу, студент. За двадцать копеек. Иначе не выкрутишься. У Шурочки денег я ни за что не возьму. Семенычу, пожалуй, тоже не надо ничего говорить — он тут ни при чем.
— Денежки, та-та-та, денежки, — доносился с кухни тенорок шефа.
Ничто не вечно — живи беспечно.
Я поплелся на раздатку, загрузил конвейер обедами, узнал цену.
— Дерзай, студент!
Денежки…
Что ж, значит, судьба. И чего только не пронеслось в голове моей, пока я шел самой длинной в жизни дорогой — мимо столиков в ресторане и потом по вагонам — до купе золотых женщин.
— Обеды не желаем? — Унимая сердце, разбивавшее грудь, я принудил себя улыбнуться.
— Желаем, — переглянувшись, оживились они. — Почем?
— Один рубль двадцать копеек.
На мне уже была маска наглеца — вроде той, фисоновской.
— Будете брать?
— Четыре порции.
Гром не грянул, земля не сдвинулась с оси, поезд не сошел с рельсов. Дамы достали кошельки и расплатились.
И с тех пор в крови поселился холодок. На вопрос о цене я смело называл завышенную. Я был почему-то уверен, что меня не уличат, и с каждым днем уверенность эта возрастала. Поначалу я удивлялся на каждом шагу: оказывается, человек, хотя и сознает, что его обманывают, скорее, переплатит, чем уличит официанта в нечестности. Одни — из стеснения: неудобно поднимать шум из-за нескольких копеек, другие — так и не переборов собственной инертности.
Чтобы уличать, надо напрягаться, куда-то идти, доказывать… Удобнее потом, когда официант уйдет, сказать про него то, что думаешь. А некоторые, так даже с удовольствием, зная о завышенной цене, сами дают больше: могу! Не мешать же им? Те же, кому принесешь под салфеткой пива или вина, становились совсем ручными. Эти точно не подведут.