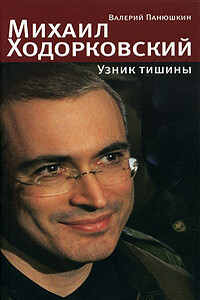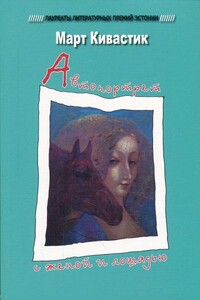Все мои уже там | страница 62
Ради наглядности своей победы я подскочил к поверженному и приставил наконечник рапиры ему к горлу. Сердце у меня заходилось. Кажется, начинался приступ мерцательной аритмии.
– Ну что? Сдаетесь? Я же говорил, отлуплю. Я же просил не размахивать руками. Оружие же в руках, Толь! Соображать же надо!
Прапорщик сел и улыбнулся совсем по-детски, счастливой улыбкой мальчишки, охваченного стокгольмским синдромом:
– Вы же сами сказали. Это… Как это?.. Придумать атаку ну, чтобы против противника, который слабей физически…
– И вы давай шашкой махать?
– Ну да. Ну а что?
Я засмеялся. Тем самым счастливым смехом, которым смеялся Обезьяна у меня в кабинете.
– Анатолий, деточка. Я имел в виду, что вам надо больше двигаться на ногах и изматывать меня.
– А-а-а… – он развел руками. – А я не понял, извините.
Я подал ему руку и помог встать с земли. Я даже, кажется, слегка приобнял его. На моей памяти это был третий раз за последние три дня, когда Янтарный прапорщик извинился.
Банько аплодировал. Чуть поодаль, стоя на крыльце, аплодировал и неизвестно когда вышедший из дому Обезьяна. И я поймал себя на мысли, что жаль, Ласка не видела меня фехтующим.
– Ай да Алексей! Ай да дедушка! – смеялся Банько.
А я слышал, как стучит у меня в груди сердце. Нехороший признак. Так начинаются приступы. Я слышал, как стучит сердце, и слышал, как оно сбивается.
Банько подошел ко мне, я передал ему рапиру и оперся рукой на плечо Толика.
– Что? Что? – всполошился Толик, заглядывая мне в глаза.
– Вам плохо? – переспросил Банько.
– Что-то, кажется, сердце, – я поморщился и подтолкнул прапорщика в плечо так, чтобы тот вел меня потихонечку к дому. – Сейчас пройдет.
Мы пошли помаленьку, и мне хотелось вздохнуть глубоко. Если у вас не бывало сердечных приступов, вы не знаете, как это. Когда я делал глубокий вдох, то не успевал выдохнуть, а мне уже хотелось вдохнуть снова. Насколько я знаю, это называют сердечной астмой. От глубоких вдохов дыхание мое совсем останавливалось. Поэтому, чем больше я задыхался, тем мельче приходилось дышать. Дышать по чайной ложке.
Дышать так мне было тем более обидно, что вокруг ведь была весна. Воздух был свежим. Пахло молодыми сосновыми иглами, которые мальчишкой я собирал с веток и ел, не зная еще, что по вкусу они похожи на манго. Пахло оттаявшей землей. Это было лучшее в году время и лучшее под Москвой место, чтобы дышать. Но, опираясь на прапорщика, я ковылял к дому мелкими шажочками и дышал еле-еле. Мне казалось, будто легкие у меня раздуты, как бывает раздут от пыли мешок пылесоса. И я слышал, как стучит мое сердце, время от времени пропуская диастолу. И все тело у меня покрывалось липким потом. А когда мы поднимались на крыльцо, порыв ветра принес вдруг запах дыма и запах крокусов, господи. И меня пробил озноб от этого ветерка. И я подумал: «Крокусы! Крокусы!» И это была панически страшная мысль – крокусы.