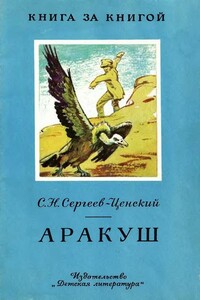Зверь из бездны | страница 24
Осмелимся предположить, что слова Чехова, сказанные им при знакомстве с писателем: «Малый добрый и теплый»[57], — полностью соответствуют его психологическому складу. О нем же, как о писателе, очень точно сказал при чтении «Юности» М. Горький: «Читал хорошо и чувствовал себя при этом тоже хорошо. Было весело и грустно, — все как следует при чтении искренно написанной книги, когда ее писал хороший и честный русский писатель. Настоящий писатель»[58].
Но как это ни парадоксально, об этом «настоящем писателе» на протяжении десятков лет не появилось ни одной основательной критической статьи ни в России, ни в эмиграции, ни одной книги, анализирующей его творческий путь. Не случайно в одном из писем он жаловался другу: «Написал я 10 книг, а до сих пор не дождался обстоятельной статьи о себе <…>»[59].
Известно, что Чехословакия очень хорошо приняла Чирикова и его многочисленное семейство, его портрет висел в витрине фотоателье в самом центре Праги, чехам пришлась по душе «его стыдливая муза, его чистота душевная, его обожание семьи»[60], проститься с ним пришли министры, сенаторы, студенты и учащиеся. И хотя Чириков так и не выучил чешский язык, он не уставал произносить слова благодарности чешскому народу, который дал ему «братский приют и возможность писать»[61]. Но и окруженный близкими и понимающими его людьми, он очень тосковал по России, особенно по Волге. «Неохота умирать и ложиться в чужую землю»[62], — признавался он старым друзьям. Особенно усилилась его тоска во время последней тяжелой болезни, от которой он уже не оправился. Ариадна Эфрон вспоминала, что «тоска жила в комнатке Евгения Николаевича, воплощенная и воплощаемая им — нет, не в рукописях: в деревянных модельках волжских пароходов, которые он сооружал на верстаке у окошка, глядевшего в самую гущу сада. Комната была населена пароходами — маленькими и чуть побольше, баржами — коломенками, тихвинками, шитиками, гусянками; челнами и косными. <…> Тесно было волжанину во Вшенорах, мелководно на Бероунке!»