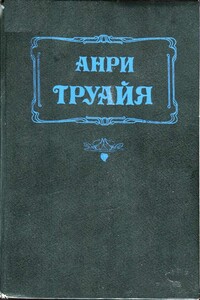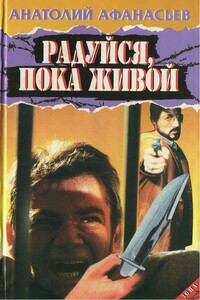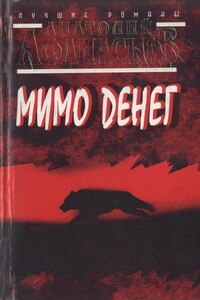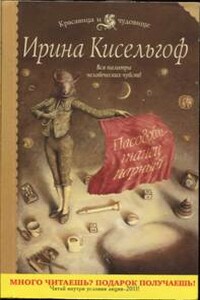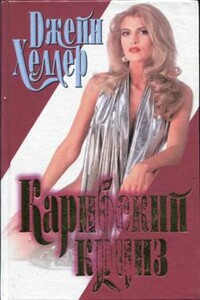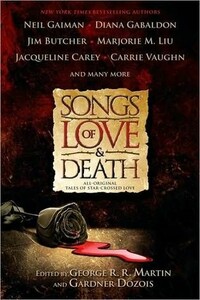Посторонняя | страница 46
Сидор Печеный умолк, уставился незрячим взглядом поверх головы Певунова. Чай остыл, они просто так сидели, курили. За окошком непроницаемая тьма. Внезапно Печеный опять оживился.
— Смысла в жизни нет, Сереня, ты зря на поиски не траться. В копченом леще есть смысл, а в жизни — нет. Возлюби каждый день свой — вот смысл. Детей возлюби. Воздух, которым дышишь. Червей возлюби, которые вскорости нас самих сожрут — вот смысл. Другого нету. Но для счастья и этого хватит.
— Червей возлюбить — это как же? — усомнился Певунов. — Это, милый, сектантство.
— Посмейся, посмейся. Пока время у тебя есть. Немного, но есть. А когда не останется, когда припрет, возлюбишь и дерево, и червя. И мои слова вспомянешь…
Поздно вечером Певунов вышел во двор по нужде. Взглянул вверх — и ахнул. Невиданного темно-сиреневого цвета небо пронизывали желтые колючки звезд, и оттуда, из мерцающей бездны лились, не достигая земли, изогнутые тускло-оранжевые лучи. Озеро, отражая небесный свет, зеленело выпуклой линзой, отчетливо вырисовывалась каждая сосенка на берегу. Редкая открылась Певунову картина, и его ожесточенное, глухое сердце сомлело. «Вот оно! — подумал он. — Вот оно — то самое!»
Утром добрался до города на попутной машине и, едва войдя в кабинет, позвонил Ларисе. Узнав его голос, она сочно зевнула в трубку. Он собирался сказать ей что-то важное, надуманное ночью, но тут же сник.
— Как чувствуешь себя, дорогая?
— Как вчера. Только еще лучше.
— Ты что — не выспалась? Поздно легла?
— Вообще не ложилась. Некогда было.
Певунов уже привычно проглотил оскорбление, хотя и екнуло у него под ложечкой.
— Сегодня увидимся, Лара?
— Зачем?
Захотелось вдруг Певунову оказаться на необитаемом острове вдвоем с Ларисой, чтобы там ее потихонечку придушить.
— Ладно, я вижу, ты не совсем проснулась. Позвоню попозже. Ближе к вечеру.
Еще один громкий, протяжный зевок.
— Ой, папочка, а ты купил мне серебряное колечко, которое обещал?
— Куплю сегодня.
— Что же ты медлишь с подарком, любимый? Это неблагородно.
Певунов повесил трубку.
6
У Донцовых тяжело заболел пятилетний Костик. Обыкновенная простуда перекинулась на легкие, потом начались подозрительные рези в животе… Врачи (а их переходило к больному множество, Мирон Григорьевич приглашал самых лучших педиатров) — все, как один, — рекомендовали больницу.
Только там, уверяли они, можно провести качественное, надежное обследование. Нина панически боялась больницы, не представляла, как можно отдать туда на муки ее желтоголового мальчика. Она устраивала мужу истерики, как только он заикался, что, может быть, э-э… Только один седенький профессор-гомеопат, его Мирон Григорьевич доставил на машине из Мытищ, где тот на покое взращивал необыкновенные сорта клубники, только этот старичок-боровичок одобрил стойкое сопротивление Нины. «Какая больница, помилуй бог! — он выпучивал глаза, шепелявил и страстно потирал сморщенные ручки. — Ребенок почти здоров, а там его уморят. Непременно уморят!» «Но ведь позвольте, — нерешительно обратился Донцов к чудодею, — второй месяц температурит. А теперь вот животик. У тебя болит животик, Костя?» «Да, папа». «В порядке вещей, — усмехнулся старичок. — Сколько же вы его лекарствами пичкаете? Тоже второй месяц? Эдак у слона брюхо лопнет». Профессор выписал гомеопатические шарики, получил четвертную гонорара и отбыл восвояси, счастливый, благоухающий клубникой и шипром.