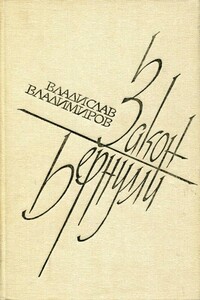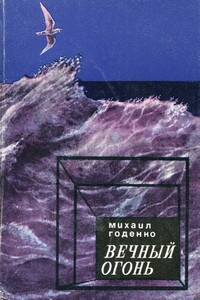Костер в белой ночи | страница 81
— Да я не к этому. Оно понятно. А то как же иначе, инструкция такая есть: «О хранении и ношении огнестрельного оружия в экспедиционных партиях». И за нарушение ее предусмотрены наказания.
— А ты законы-то знаешь!
— А то как же? На то они и законы, чтобы их граждане знали. За меня, Матвей Семенович, некому постоять, я человек маленький, я сам себе защитник должен быть. А то вон оно как получается, вроде бы я злодей уже. Обвинение…
— Никто пока обвинения тебе не предъявляет. А надо будет — предъявим.
— А я что, я ничего, Матвей Семенович, это я так, в порядке замечания. Значит, вышли мы вот сюда. Прошли, Алексей Николаевич вот тут присел. — Комлев мелкими шажками подбежал к соснам, присел под деревьями, показывая, как сел Многояров. — А я вот тут устроился. — Он снова вернулся к влумине и опустился на землю, положив на колени прихваченную у сосен палку. — Это вот у меня карабин так вот лег. Устал я шибко за день-то, больше трех десятков шлихов отмыл. Спину разламывает, поднять рук сил нет. Я Алексея Николаевича, значит, спросил: может быть, заночуем тут? А он говорит: «Отдохни, Коля, я вот точку опишу, и теперь уж, пожалуй, сразу на чум отойдем». Я карабин на коленях держу и полез, значит, за кисетом, а тут как ахнет выстрел. Кто это, думаю, по нас стреляет, откуда, думаю, выстрел? Глянул, а Алексей Николаевич валится, валится. Это что же, значит, из-за скал, что ли, кто выстрелил?! Вскочил, к нему бросился и тут словно ошалел я: мертвый, значит, Алексей Николаевич, мертвый. Голова-то вся развороченная.
— А может, он не мертвый был? Может быть, ему рану-то бинтовать надо было? Помочь ему!
— Какой там! У него уже и глаза пеплом затянуло, и кровь булькала ну как из бутылки. Напугался я. Вот так подбежал к нему. — Комлев уже до этого, уронив с колен палку, вскочил и сейчас одним броском оказался рядом с Глохловым у сосен. — Вот так нагнулся и кричу, кричу его, значит, зову. А он мертвый. А вот дальше, пока в тайге не пришел в себя, ничего не помню.
Комлев замолчал, его била дрожь, и синюшная бледность, выступив у губ, медленно расползалась по лицу. Он странно как-то всем нутром икнул, стараясь что-то еще сказать, но Глохлов остановил его.
— Ладно, ладно. Все ясно. Успокойся, успокойся, — ощущая в сердце жалость к Комлеву, сказал Глохлов. — Пойдем. Успокойся, говорю.
Комлев прислонился к сосне, обхватив ее руками, прижался лбом к стволу, едва выдавив из себя:
— Иди, иди, я счас.