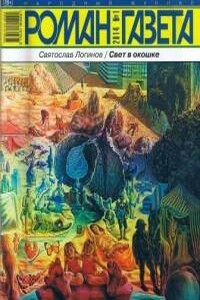Костер в белой ночи | страница 74
Об этом я не думаю, это свершится. Меня уже нет на земле, нет мыслей, взгляда нет, ничего — оморочь. Катится по отмели снеговик…
…Асаткан дрожит мелко-мелко. Мокрая, маленькая. Да полноте, Асаткан ли это?
— Люча, не надо. Проснись, люча. Борони бог, люча, — забыла Асаткан так хорошо знакомый ей русский язык, говорит на родном, путаясь, сбиваясь, с акцентом. — Бойе, люча! Булэ, аяври?![28]
Все это кажется. Все неправда. Нет меня на земле. И Асаткан нет, ничего нет. Только камень-писенец.
— На, возьми. В рот возьми, жуй…
— Ала… ала…[29] — на губах дурманяще-сладкий, липкий какой-то вкус. — Тьфу! Гадость…
…Река-биракан водорослью кормит, раскачивает, задушить хочет. Тянет вниз подбородок, губы размыкает, вот так взнуздывают строптивых лошадей. Холодная сталь мундштука. Больно. Хруст какой-то. Нет! Нет! Не разомкну зубы. Не дамся! Нет, я не лошадь, зачем взнуздывать? Разошлись челюсти, ослабли. Во рту, в горле дурманная, противная сладость. Весь рот забит ею. Мерзость! Надо проглотить. Проглотить и свести челюсти, до хруста, напрочно. Глотаю. И вдруг тело мое изгибается — раз, другой, третий. Я ощущаю себя, я чувствую. Бьюсь, мечусь. И все во мне бьется, мечется. Свет вечерний, тихий, мутный-мутный, словно за матовыми стеклами. Асаткан, она там, за этой мутью, за дурнотой, за бегучей пеной реки…
— Люча! Бойе, люча!..
Рвота. Приступ дикой рвоты треплет меня. Из глаз, носа, рта хлещут фонтаны воды, что-то зеленое, алое, томное. Дурнота, легкость, боль… И снова — рвота, рвота, рвота…
— А я, люча! А я!..[30]
…Широко, жарко горит костер.
Упаристо, словно в бане. Медленно прихожу в себя. Гудит голова, тело гудит, во рту противно.
Вон опять заплутался в сосновом кружеве Холбан — алый, будто пропитанный теплой кровью Марс. Река гудит. За рекой белеет Писенец-камень.
Голова моя лежит на чем-то влажном, мягком, теплом. Повел взглядом — Асаткан. Чуть повернула красивое лицо к жаркому полымю костра, ломает сушняк, кидает в огонь. Веточку за веточкой. Над плечами, над головой чуть курится парок. Надо мной тоже. Одежда просыхает. Оттого и упаристо. Чуть пошевелился. Затылок мой на девичьих коленях.
— Лежи, лежи, бойе. Чичас пройдет. А я, люча!
Асаткан по-прежнему говорит с акцептом, быстро.
— Почему ты так говоришь, Асаткан?
Помолчала. Хрустнула в руках ветка, полетела в костер. Чуть наклонившись к моему лицу, прошептала:
— Боюсь я…
Шевелю ногами, поочередно то одной, то другой, руками — целы. Чуть прибаливает, поет бедро, бок щемит. И челюсти — ох как болят челюсти! Потрогал языком зубы — болят, на одном глубокая острая щербинка.