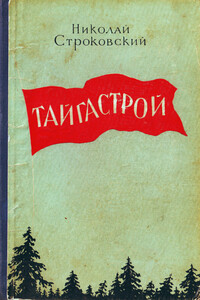Костер в белой ночи | страница 17
У подъема на мег присели отдохнуть. Собственно, остановился я, снова пораженный красотой здешних мест. Чироня сбросил с плеч мой вещмешок, нести его выявился сам, вытер рукавом похмельный пот с голого (усы и борода у Чироня, как у эвенка, росли плохо) желтого лица и предложил, переходя на твердое дружеское «ты»:
— Давай чай варить. — И признался: — Другие сутки не жрамши. В брюхе гук стоит.
— Давай, — согласился я.
Было как раз то время нарождающегося дня, когда солнце, поднявшись над тайгою, выпило утрешнюю волглую свежесть и принялось за холодные в росе травы. Воздух в эту коротенькую пору бриллиантово чист, прозрачен. Дальние сопки будто придвинулись ближе, лежат окатистыми ковригами, а чуть напряжешь зрение — различишь стволы и ветви.
Чироня утверждает, что видит шишки.
— Хочешь, из твоей стрелялки пальну, доглядишь, как дожиком на землю посыпятся, — предлагает он.
Я верю на слово.
Чироня сбегал куда-то за паволок, принес полный котелок чистой родниковой воды, подцепил свой мятый луженый жестяной казанок и снова умотал легким, неслышным шагом.
— Пойду ягоду возьму…
Бусый дым столбится над огнем ровно и густо. Безветрие. Где-то далеко-далеко, глазом не различишь, кричит ворон, и ему вторит работящим стуком жолна — черный дятел.
Мы пьем с Чироней чай, пригоршнями прихватывая из его казанка спелую, прозрачную кислицу. В кружки из фляги я плеснул коньяку, и чай вдруг обрел для Чирони неведомый еще вкус.
— Скусна, — блаженно говорит он и доливает в кружки смолисто-темного чая, оставляя место для коньяка.
Едва заметная дрожь, которая трусила его голову, руки, да, вероятно, и тело, прошла, и он как-то вдруг весь изменился, посветлел, что ли. Я наливаю в кружку коньяк, но краешек — всклень. Чироня припадает к ней тонкими губами и, обжигаясь, все же тянет пахучую, бражную влагу мелкими, экономными глотками.
— Алаке![1]
Потом он надолго оставляет кружку и ест охоче, с причмоком консервы, сушеную колбасу, сухари, вяленое мясо (им в избытке снабдили меня в Подвеличном). Сохатине явно отдает меньше предпочтения, как пище местной и грубой.
Я никогда еще не встречал людей, так быстро, на глазах меняющих облик. Из пьяного, ошалевшего от сивухи, растерзанного полудурка Чироня становится необыкновенно симпатичным, веселым, с задористыми бесенками в глазах, бывалым человеком. Его седые, будто бы вывалянные в пыли и мелкой липкой паутине волосы аккуратно собраны и прихвачены широкой тесьмой. Так часто делают эвенки-охотники. Рубаха, что вольно болталась на его худом костистом теле, глубоко заправлена в штаны (нашел все-таки, как ни старалась упрятать их Матрена Андронитовна). Когда он навел на себя такой лоск, я и не заметил.