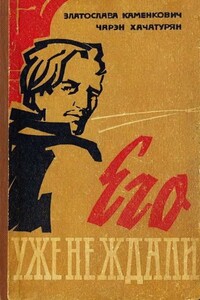Опасное молчание | страница 24
Платон глухо сомкнул брови над запавшими глазами и спросил Анфису, показывая на Сашу:
— Это чьих рук дело?
— Марфа, ее работа, — отозвалась вдова. — Подговаривала баб, чтобы скинуть Софью и Сашу с обрыва. Такое наплела, такое!.. Пересказывать — только бога гневить. Лютость у кабатчицы к дитю твоему из кожи вон лезет, беда б через то не вышла…
А Севиль… Она стояла, придерживая за плечи сына, опустив горящие радостью и любовью глаза.
Саша, всхлипывая, подошел к Платону, вскарабкался к нему на руки и, обхватив ручонками шею, уткнулся в нее мокрым холодным носом.
Загрубевшая большая рука Платона заметно дрожала, когда он приглаживал разметанные волосы Саши. И этот проблеск отцовской ласки вдруг вернул Севиль надежду.
Но то, что произошло в следующую минуту, было страшно и заронило на всю жизнь в сердце мальчика нестерпимую боль стыда.
Мать упала на колени перед отцом, обхватила окровавленными руками его босые ноги и начала их горячо целовать.
— Не ходи… Я не пущу тебя к ней, — обливаясь слезами, шептала она. — Не пущу…
Отец опустил Сашу, поднял за плечи Севиль, разжал спекшиеся губы и словно огнем дохнул:
— Этого не проси!
— Тогда убей меня!.. — взмолилась женщина. — Втопчи меня в землю!.. Я не хочу жить!.. Убей!..
— Пусти, — оторвал ее от себя Платон. — Не будет по-твоему и баста!
Лицо Платона было страшно. Но страшно не гневом, а безумной страстью к той, другой, имевшей над ним большую власть, чем сама смерть.
Он замкнулся в каменном молчании и пошел, шлепая босыми ногами по мокрым камням, ни разу не оглянувшись.
— Я не хочу жить!!! — в исступлении билась Севиль.
— Сама заковала себя в кандалы неволи! — крикнула Анфиса, хотя у нее сердце разрывалось от жалости к несчастной. — За что его любишь? Ведь надругался над тобой и сыном! Али хочешь Сашу круглым сиротою оставить?
При упоминании о сыне Севиль пришла в себя, но вся тряслась и вздрагивала.
— Сашу пожалей, совсем ведь окоченел. Застудится. И мои там заждались…
Севиль с трудом поднялась. Ни кровинки в лице. Сделала пару шагов, пошатнулась и рухнула бы на камни, да Анфиса успела подхватить ее.
К восьми годам чернокудрый Сашка вытянулся, возмужал. И следа не осталось от доверчивого, открытого взгляда. Всегда угрюмый, озабоченный. После страшной истории у обрыва стал заикаться. Давно уже не называл Платона «папаней». Не дрожал от страха, боли и стыда, если случалось видеть, как Василиса прямо с порога монополии окатывает Платона из ведра, а тот, распластавшись на земле, что-то бессвязно бормочет. Не вспыхивал, когда кабацкая Марфа в отсутствие Платона ругала его последними словами, уверяла рыбачек, что денно и нощно молит бога о черной яме на Платошку-разбойника.