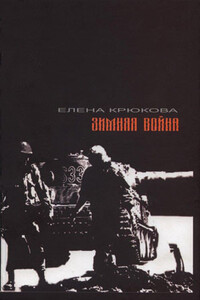Тибетское Евангелие | страница 62
И я вдруг вспомнил, что я — Исса.
И так светло и радостно мне стало.
«Никто не остановит меня на моем пути в Тибет», — ясно и весело подумал я. И очистилась душа от накипи. И омылась от крови. Я разрезал морду медведю, и под бурой свалявшейся шерстью навсегда останется кривой, косой шрам. В память о танце на морозе. В память о человечьей любви.
— Гражданин, ваше имя! Да, да, ваше!
— Исса, — сказал я светло и спокойно.
— Как-как? Нам не надо тут кличек ваших бандитских. Я спрашиваю, как вас зовут? По паспорту?
— Исса, — повторил я спокойно и радостно.
Женщина-лиса, пытавшаяся выудить из меня мое мертвое прошлое, тяжело вздохнула и бросила на стол ручку.
— Вы же видите, Павел Герасимыч! Я не могу! Везите его сразу в дурку! Его — и ее! Вы же видите!
Люська сидела, изящно сбросив с плеч ватник. Под ватником она оказалась, как я и представлял, тонкой и хорошенькой, молодой на фигуру, с узкими прямыми плечиками, с высокой и длинной, как стебель водяной лилии, шеей, с узкими, почти мальчишечьими бедрами, а грудь поднималась под цветастым ситцем плотно и пышно, вот только мордочку ее я рассмотрел вблизи, при свете белых милицейских ламп: и морщинки, и седые кудряшки, и сожженные, выпитые временем губки. Поизносилась бубновая когда-то дама. Повытерлась…
— Танго, — выцедила Люська-Эрдени сквозь зубы. — Мое танго! Мое аргентинское, вечное танго! Вы никто не умеете танговать! Подлецы! Ротозеи!
— Леня, бригада еще здесь? Еще стоит машина? Глянь. Если отъехали — набирай номер диспансера! Два, пять, девять, два, девять…
— Вот он — умеет! — крикнула Люська.
И повернула старое красивое лицо ко мне.
И поцеловала меня: не как проститутка — как царица золотой, безбрежной пустыни моей.
И привезли нас с Люськой в дурку, как презрительно назвала эту больницу милицейская секретарша-лиса.
И там я всем терпеливо объяснял, что я Исса, не отрекался от своего истинного имени, и меня особо долго не терзали расспросами, а сразу сняли с меня всё — и зипун, и пиджак, и штаны, и бельецо, подштопанное еще покойной женой, Лидочкой моей, и повели в душ, мыться, и голос за спиной кричал: «Валенки — в прожарку! Остальное — тоже! Бродяга, у него блохи! Вши!» — и я повернулся и сказал спокойнее некуда: это у вас могут быть вши, а у светлого, чистого Иссы их быть никогда не может, — и потом я долго, долго стоял под душем и блаженствовал, и наслаждался, такая была теплая и приятная водичка, просто сладость земная, и отогревался, все же мороз сегодня стоял знатный даже для наших мест, — а потом мне выдали мятую, но чистую полосатую пижаму и спровадили под белы рученьки в огромную, как дворец, палату. Там лежали на койках, сидели на табуретах и стояли у окон и стен люди, с виду такие хорошие, обычные, нормальные люди. Краем разума я соображал, что их всех запичужили сюда по подозрению в том, что они не такие, как все. Вот как я, например.