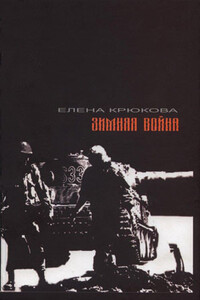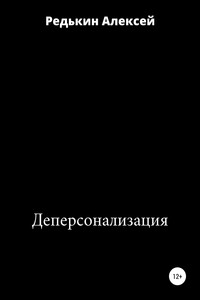Тибетское Евангелие | страница 40
Чьи-то кулаки посунулись к столу, чьи-то руки хватали и терзали еду, глотки смеялись и выталкивали ругательства, кудри вились, в коньячные бокалы окунали носы, кто-то вылил коньяк себе на затылок, за шиворот, зубы блестели хищно, волчино, и Исса увидел — на костяшках чужих пальцев, на наглых руках, грязных, может, в вокзальном мазуте, протянутых к полному жратвы столу, запеклось красное, горячее, страшное. Кровь.
Еда вперемешку с кровью. Коньяк и белый порошок, от которого дуреют навсегда. Револьвер валялся около вазы с виноградом. Колобок внес кастрюлю с гранатовыми друзами красной свежей икры — только что сам взрезал кету, сам серой солью икру густо усолил, — и взгромоздил на стол. Стол был корабль, нагруженный награбленным добром, он шел, проламывая волны снега и времени, и не тонул. Он не потонет никогда.
Воры, убийцы, разбойники, вы живы всегда, а что вам силы жить дает? Неужели чужая боль, чужая смерть вам радость и счастье несет? Чужие деньги берете, чтобы едою столы завалить, брюхо свое потешить, а если у вас — украдут? Если жизнь свою — отдадите?
И отдадим. И не страшно. И плевать!
Лысый дядька, щеки до переносья в синей щетине, разинул мохнатый рот, золотая серьга блеснула в кривой коричневой ракушке уха. Он заорал и оглушил Иссу, и Исса не сразу понял, что это была песня.
И все бандиты за громадным столом-кораблем навалились на рюмки и стаканы, как гребцы на весла, и яростно, вразнобой, зубами сверкая, грохнули:
Шуня размахивал вилкой. Дядька с синими колючими щеками повернул мощную голову к ночному окну, под люстрой мигнула серьга золотым птичьим глазом.
Хор диких мужиков, похожих на оборотней, напяливших на башки волчьи и медвежьи шкуры, грянул на всю хату:
— Ты чо прискакал-то в Черемхово, конь педальный? — под гром голосов спросил Иссу Шуня и влил в рот еще бокал коньяка. Коньяк он пил залпом, как водку, и это было нехорошо. — Чо ты тут потерял?
— Ничего. — Исса глядел Шуне прямо в глаза. — Меня зовут Исса, и я пустился в дорогу, чтобы найти на земле Мудрых, сесть перед Ними на снег и говорить с Ними.
— Мудрых?! Это мудаков, блядь?! — взвыл Шуня и свирепо захохотал, затрясся весь, как холодец, и колыхался жирный живот его, и мощные плечи, и бульдожьи щеки. — Ну ты сам мудер, мудак! Мудозвон ты, я погляжу! Ты вот что! — Рванул со стола револьвер. Взвел курок. Опять нацелил на Иссу, в лоб ему. — Понял ты все, кто мы тут?! Да-а-а-а?!