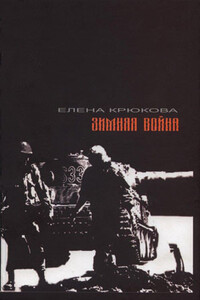Тибетское Евангелие | страница 16
Зеркало будто внезапно удлинилось, вымахнуло ввысь и вниз.
И рассмотрел себя — всего, подробно, жадно, жарко, во весь рост.
Из зеркала на него глядел нежный высокий юноша, мальчик почти. Длинные шелковистые волосы до плеч, русая паутина. Морозный, инистый пушок над губой. Широко, как у нерпы, расставленные, почти под висками горящие, узкие длинные, два малька, вроде как бурятские глаза. Бородка чуть пробивается. Брови над переносьем золотой травою срослись. Странный плащ, наподобье холщовой хламиды, а может, раскроенный надвое грязный мешок из-под картошки, висел вдоль сильного, это чуялось под холстом, крепкого молодого тела. Текли, падали холщовые серые складки. На груди висел, на тонком ремешке, кисет из тончайшей телячьей кожи. А может, то была кожа нерожденного теленка. Убитого гадкими жестокими мясниками в утробе матери-коровы. И мастер сшил из него мешочек, а женская рука насыпала туда мелких нефритов и янтарей — на радость, на смертную память.
Еще на груди, на ремешке чуть потолще, висела маленькая нэцкэ из моржовой кости. А за плечами, на спине, мотался маленький узел дорожный. И он хорошо знал, что там, внутри, за поклажа: охотничий нож в кожаном самосшитом чехле, баночка с солью, жестяная коробочка с китайским чаем люйча, железная фляга с крепким напитком, который пьют лишь мертвые скифы одни в целом мире, и никто больше, — и еще, о да, еще там лежали вата и бинт, на случай внезапной раны, а еще — кусок вяленого мяса бастурмы, на случай внезапного голода, а еще — там лежала маленькая тонкая дудочка, о, должно быть, флейта, а может, она называлась авлос, а может, она называлась сякухати, — выточенная из кости древнего дикого зверя, с шестью крохотными отверстиями, похожими на ноздри или на черные зрачки: всегда глядят, всегда дышат, звучат — всегда.
И он знал, что умеет на ней играть.
Поправил ремень на плече. Эка, одежка-то легкая, легче пуха, в пути долгом задрогнешь, паря! Еще раз поглядел на себя, молодого, дико и странно одетого. Краем сознанья прошло черное крыло прежней, мертвой мысли: если это не я, то кто же? И еще: доктор прав, опухоль выросла, перекрыла мне воздух мира, и я сошел с ума.
— Василий, — тихо, мрачно сказал сам себе и потрогал себя за нежную, пушистую юную бородку, — Васька, это ты, что ли? Или ты спишь?
И красивый насмешливый юноша из зеркальной озерной глуби медленно ответил ему, и он услышал, и его непослушные горячие губы повторили, как заклинанье: