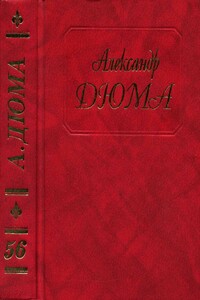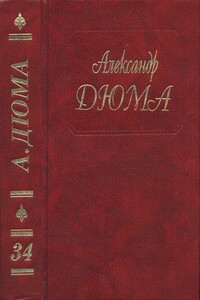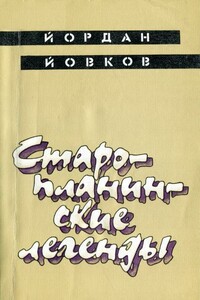Платеро и я. Андалузская элегия | страница 14
Она и мы
Платеро, вот и увез ее — куда? — тот черный, выстекленный солнцем поезд на высокой насыпи, что ушел, пересекая белые облака, на север.
Мы стояли с тобой внизу в желтой немолчной пшенице, ало забрызганной июльскими маками, уже увенчанными пепельной коронкой. И клубы голубого дыма — помнишь? — затуманив на миг солнце и цветы, бесплодно уплыли в никуда...
Мимолетная золотая головка под черной вуалью! Как сновидение в беглой раме окна.
Наверно, она подумала: «Кем они могут быть — этот траурный человек и серебряный ослик?»
А кем еще мы должны быть? Нами... верно, Платеро?
Лето
Платеро кровоточит, искусанный слепнями, сочась густой лиловой кровью. Пилит сосну, вечно далекую, цикада... Из необъятного мгновения сна я возвращаюсь к песчаной окрестности, внезапно белой, призрачной, холодной в мертвенности зноя, как ископаемый ландшафт.
Низкий горный кустарник весь заметён огромными воздушными цветами, мглистыми газовыми розами с четырьмя алыми брызгами на каждой, а за ним удушливое марево уже припудрило плоские сосны. Невиданная птица, желтая в черный горошек, беззвучно каменеет на ветке.
Сторожа гремят медью, пугая лесных голубей, которые сизой стаей кружат по апельсинным садам... Когда мы входим в большую тень орехового дерева, я раскалываю два арбуза, с долгим сочным хрустом ломая их алый и розовый снег. Я свою долю ем медленно, слушая, как далеко-далеко, в городке, звонят к вечерне. Платеро сахарную мякоть пьет, как воду.
Воскресенье
Малый колокол, то рассыпая скороговорку, то притихая, так отдается в утреннем небе, словно синева стала стеклом. И поля, уже заметно сдавшие, золотисто светлеют в этой веселой цветной капели перелетных звуков.
Все, даже сторож, ушли в город, смотреть крестный ход. Мы с Платеро одни. Как покойно, светло и славно! Я отпустил его и лег под сосной, усыпанной безмятежными птицами, с книгой.
В паузы перезвона вступает, все ощутимей набирая звук, кипучая тишина сентябрьского утра. Черно-золотые осы вьются над тяжелыми литыми гроздями муската, и, словно в красочном превращении, двоятся, на глазах меняясь, цветы и бабочки. И тишь — как огромная светлая мысль.
Время от времени Платеро поднимает голову и смотрит на меня... Я опускаю книгу и смотрю на Платеро...
Песнь полевого сверчка
Наши с Платеро ночные дороги сдружили нас с песней сверчка.
Запев ее, в сумерках, робок, глух и неровен. Песня пробует тон и, вслушиваясь, учится у самой себя, но потихоньку начинает расти, выправляется, словно попадая в лад пространству и времени. И с первыми звездами в зеленом и прозрачном небе вдруг наливается вся певучей прелестью одинокого бубенца.