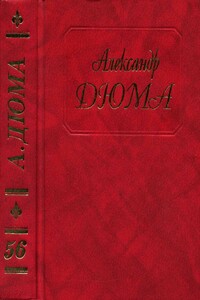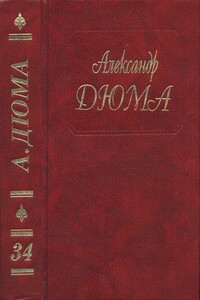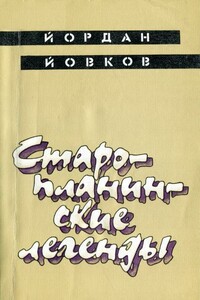Платеро и я. Андалузская элегия | страница 13
Петухи
Не знаю, Платеро, с чем и сравнить... Крикливая броскость кармина и золота, настолько не похожая на испанский флаг над морем или в синем небе. Разве что в синем небе корриды... Мавританщина вокзалов от Уэльвы до Севильи... Оскомина от желтого и красного— как на дешевых обложках, на витринах киосков, на скверных картинках африканской войны. Оскомина подобно той, что вызывали у меня атласные колоды с пошлыми червовыми сердечками, зеленый глянец табачных коробок, винные этикетки, школьные грамоты, шоколадные обертки...
Кто меня привел? Как я попал туда? Мне мерещился зимний полдень, теплый, как труба в оркестрике Модесто... Пахло вином, жеваной колбасой и табаком. Маячил депутат, с алькальдом и Литри, жирным и глянцевым тореро из Уэльвы. Петушиная арена была маленькой и зеленой, и на нее наплывали, переливаясь через край барьера, набрякшие кровью, сырые, как потроха на бойне, лица с багровыми пятнами глаз, распираемых вином и мясистой дрожью сального сердца. Из этих разбухших орбит рвался крик. Становилось душно, и мир — такой крохотный петушиный мир — был безысходен.
А в просторном луче высокого солнца, который без конца пересекали, словно чертя по пыльному стеклу, ленты тягучих голубых дымков, несчастные английские петухи, два кошмарных и колючих карминных цветка, то вдребезги разлетались под людскими взглядами, то в слаженном прыжке слипались, иглисто твердея людской злобой, полосуя друг друга шпорами цвета лимона... или яда. Они были совершенно бесшумны, слепы, их просто не было.
Но я, зачем же там был я — и так томился? Не знаю... Сквозь изодранную парусину, от ветра похожую на кливер фелуки, с такой тоской я вглядывался в апельсинное дерево, которое на вольном солнце поило воздух белизной цветов... Как хорошо — задыхалась душа — быть апельсинным деревом, упругим ветром, высоким солнцем!
...И все же я не уходил...
Смерклось
В усталой мирной потаенности городских сумерек так волшебно и грустно угадывать далекое, припоминать едва знакомое! Словно болезненные чары держат весь городок в плену долгого печального раздумья.
Пахнет чистым здоровым зерном, которое круглится на токах туманными холмами, мягко желтея среди прохладных звезд. Работники вполголоса поют, самим себе, дремотно и устало. Сидя в подъездах или на пороге, вдовы думают о мертвых, которые покоятся так близко, за дворами. Дети перепархивают из тени в тень, будто с ветки на ветку птицы...
Порой среди лачуг, в последних мутных отсветах на штукатурке, уже буро подкрашенной керосиновыми фонарями, угрюмо возникают землистые фигуры, бесшумные, мучительные, — пришлый нищий, португалец на пути к лесным расчисткам, а может, и вор, — своим темним, недобрым появлением резко вторгаясь в ту задушевность, которой долгие сиреневые сумерки смягчили все привычное... Дети прячутся, и в тревожной тьме подворотен идут шепотливые пересуды о тех, кто «топит из детей жир для королевской дочки, которая в чахотке»...