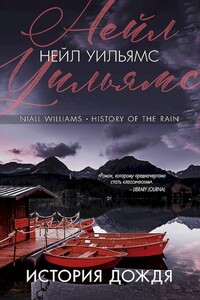Мой золотой Иерусалим | страница 93
Обретя дар речи, я спросила, нельзя ли увидеть ее, но мне предложили прийти на другой день, так как Октавия еще без сознания и тревожить ее не следует.
— Конечно, конечно, — смиренно согласилась я и, преисполненная благодарности к ним всем, выплакалась всласть в гардеробе, а потом отправилась домой.
Только, когда я уже была дома, меня начали обуревать вопросы, над которыми до сих пор я не позволяла себе задумываться: что решит Октавия, когда очнется в больничной палате? Вдруг после операции у нее будут сильные боли? Не плачет ли она? Хорошо ли ее покормят? Допускать такие мысли раньше означало искушать судьбу, но сейчас они с каждой минутой донимали меня все сильней. Теперь, когда роковая опасность осталась позади, все ежедневные заботы сразу вернулись на свое место. Наверно, думала я, Октавию испугает не столько боль, сколько незнакомая обстановка, ведь она никого не признаёт, кроме меня, даже миссис Дженнингс и Лидию только снисходительно терпит, а всех чужих отвергает с нескрываемым отвращением и плачет. Одному Богу известно, какие неведомые страхи переживают дети в младенчестве, не имея возможности ни с кем поделиться. Дети все забывают, отмахиваемся мы, но ведь дети еще не умеют произносить слова, которые могли бы запасть нам в память, они не способны терзать нашу совесть рассказами о своих горестях. К тому времени, как они начинают говорить, они и впрямь не помнят, отчего страдали, и мы так и остаемся в неведении. Дети все забывают, повторяем мы, будучи не в силах признать, что они не забывают ничего. Мы не можем мириться с несправедливостью судьбы и потому притворяемся, что младенец не помнит часы, проведенные на полу в телефонной будке, куда его подбросили, завернув в газеты, не помнит злобных тумаков, которыми награждали его те единственные, кто призван был его любить; не помнит, как в гудящем пламени опрокинутой керосиновой печки сгорали заживо его старшие братья. Подобно утешителям Иова[38], мы не хотим верить, что невинные могут страдать. Но тем не менее они страдают. Мы видим это, но не соглашаемся признать.
Когда утром я пришла в больницу, меня ждал непредвиденный, неподкупный заслон. Облаченная в белый халат леди, чей чин был мне не вполне ясен, заверила меня, что все хорошо, что состояние моей дочери вполне удовлетворительное, что у нее есть все необходимое.
— Мне бы хотелось пройти к ней, — набравшись храбрости, сказала я.
— Боюсь, это невозможно, — со спокойной уверенностью ответила леди в белом халате, опуская глаза на кипу карточек.