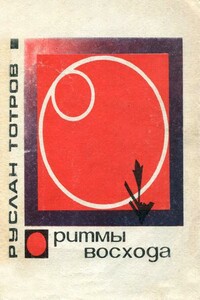Любимые дети | страница 77
ЖАЛОСТЬ.
— Алан, — зовет мать, — иди завтракать.
Ей приятна сама возможность произнести вслух мое имя.
— Иду, — откликаюсь, — только умоюсь сначала.
Усаживаюсь за стол, и она садится, но не рядом, а в сторонке, у окна, сидит и смотрит на меня, ждет.
— Один не буду, — говорю, — ты же знаешь.
— Ешь! — сердится она. — Я позавтракала дома.
— Во сколько? — интересуюсь. — В шесть или в семь?
— Да уж не в одиннадцать, как ты.
— А не кажется ли вам, мама, — улыбаюсь, — что вы просто жадничаете? Стараетесь, чтобы сыночку побольше осталось. И на завтра, и на послезавтра, и на послепосле…
— Не болтай глупостей!
— Садись, — прошу, — не так уж часто нам приходится завтракать вместе.
— И в кого ты такой настырный? — вздыхает она, довольная, и подвигается к столу, а я, вскочив, тарелку перед ней ставлю, вилку — по левую руку, нож — по правую, салфеточку ей на шею повязать пытаюсь, и снова она отбивается, смеясь, отталкивает меня: — Нет, ты никогда не повзрослеешь.
А МОЖЕТ, ЭТО И НЕ ТАК УЖ ПЛОХО?
— Расскажи, — пристаю, — как живете? Как отец, Чермен, Таймураз?
— Если бы ты хотел это знать, — отвечает она, — почаще приезжал бы, — вздыхает: — Я и не помню уже, когда ты последний раз был дома.
— Дела, — каюсь, — закрутился совсем.
Да, конечно, я так занят, сыночек блудный, что не вырваться мне — до села ведь целый час езды! — вот и не соберусь никак, все откладываю со дня на день, все откладываю.
— Что ты делаешь?! — пугается мать. — Разве можно пить такой крепкий чай?
— Привычка, — развожу руками.
— Отлей сейчас же! Разбавь!
— Слушаюсь, — руки по швам вытягиваю, — повинуюсь.
— И не пей такой горячий, дай ему остыть хоть немного.
Так было и в прошлый ее приезд, и в позапрошлый, все повторяется, возвращаясь, и начинается вновь с исходной точки, и в том, прожитом времени, знаю, она встанет сейчас, возьмет тряпку, веник, наберет воды в ведро и, пока я чай пью, наведет порядок в комнате — вытрет пыль, пол подметет, занавески поправит, и темноватая комната моя станет опрятнее, уютнее и даже светлее вроде бы, и я удивлюсь, войдя, а мать кивнет неопределенно, то ли меня укоряя за неряшливость, то ли сама довольная свершенным, и — тряпка, веник, ведро, все при ней — отправится на кухню, чтобы посуду вымыть, пол подмести и там, и в коридоре, и так далее, и снова, как в прошлый раз и в позапрошлый, она встает и улыбается виновато:
— Ох, ноги не ходят.
Пытаюсь, как всегда, остановить ее:
— Посиди, — говорю, — отдохни, — но она только рукой машет в ответ, и я умолкаю, догадываясь еще раз, что мать не просто долг свой исполняет, что ей приятно хозяйничать в сыновнем доме.