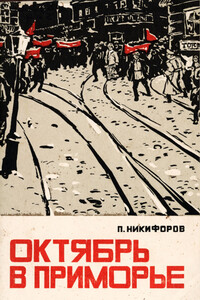Отступление | страница 26
Вдруг он вспомнил пустую зеленую площадь на окраине и Ханку Любер, которая покинула его там, обиженная, бледная и взволнованная. Сразу почувствовав себя виноватым, начал ворочаться с боку на бок: «Тьфу! Восемнадцать чертей тебе!»
И тут же поймал себя на мысли, что так ругался его отец. Ну не карикатура ли, что он ругается точно так же, и даже его последняя мысль не нова — он уже не раз думал, что каждый человек всего лишь карикатура на своего отца.
На рассвете он лежал в полудреме, убежденный, что все, о чем он размышлял всю жизнь, гроша ломаного не стоит, что он, Хаим-Мойше, пустое место, что напрасно он мечется. Вот зачем, например, он приехал в Ракитное? Дело, ради которого он приехал, он мог легко осуществить и в большом городе, где живет. А по сути… По сути, кому это интересно, ну, появится в Ракитном, на окраине кладбища, рядом с могилой Мейлаха еще одна, свежая…
Он заснул. Перед ним сидел Мейлах, держал на ладони кусочек китового уса и улыбался с таким видом, словно хотел сказать: «Это, Хаим-Мойше, все, что мне досталось от любимой женщины».
Внезапно Мейлах исчез. А возле Хаима-Мойше кружились Хавы Пойзнер — не одна, а сразу несколько. Они поглядывали друг на друга и пели высокими, сильными голосами, и его тянуло к ним, ко всем вместе.
Он проспал часа три, не больше. И все же поднялся утром веселый, полный сил, будто половину груза сбросил с души. Вдруг захотелось вернуться к неоконченным записям, оставленным вчера на столе, и сердце радостно забилось:
— А кто вечен?
— Вечен я, мертвый Мейлах…
Умываясь в комнате перед зеркалом, он заметил, что щеки у него ввалились, лицо похудело. Глаза горели, хотелось скорее вернуться к недописанным строчкам. Теперь все готово: в этот тихий летний день, когда над головой простирается чистое голубое небо, Хава Пойзнер больше не была одна; их было много, много, и у каждой был такой маленький божок, они прижимали его к сердцу, каждая своего божка, они доставали его и укладывали спать. «Баю-бай», — качали они своих божков, напевая высокими, сильными голосами. Они спали, эти божки, но у одного блуждала на бледном, ясном лице смущенная улыбка: улыбка Мейлаха…
В три часа пополудни он вышел из комнаты. Лицо так пылало, что пришлось умыться холодной водой. Он был весел и спокоен. Поболтал, посмеялся с женой Ицхока-Бера, надел новый костюм и в одиночестве отправился в город.
Хаим-Мойше шел по тропинке, скрытой в высокой зеленой траве. Ракитное было как на ладони. Шпили двух монастырей и купол синагоги возвышались над крышами прочих городских построек, дрожали в дымке, пронизанной лучами летнего солнца. Издали местечко выглядело точь-в-точь как в его детском сне: Хаим-Мойше смотрел, не отрываясь, и робкие тени его детства сплетались вокруг его души. Он вспомнил, что когда-то здесь, в этом городе, он был очень религиозен. Сердце тут же забилось быстрее, и мозг опьянила внезапная мысль: «Старый врун, его детский молитвенник, валяется, наверно, на чердаке синагоги среди других книг с пожелтевшими страницами». Он будто отомстил этому старому, толстому вруну.