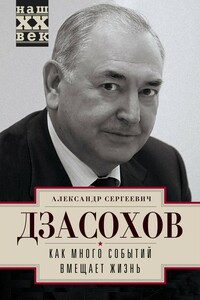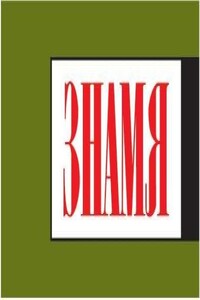Порядок слов | страница 2
И я тебе даже больше скажу: мое положение кое в чем потяжелей твоего. Ты ведь работаешь, как некогда говорилось, “от себя”, со своим собственным материалом и волен поступать с ним как тебе заблагорассудится. А я скован тем, что уже сделано настоящим автором. Есть в нашем деле тот жупел, которого особенно боятся редактора – “переводческая вольность”. Я, впрочем, ничего дурного о людях этой героической профессии сказать не хочу. Из восьми, кажется, редакторов, с которыми мне довелось водиться, только один поразил меня до глубины души, вернее, одна. Эта дама, повстречав в переводе фразу “...когда Первый Герцог начал обустраивать парк” (речь там шла об Англии XVII столетия), начертала на полях: “При чем тут Солженицын?” И действительно, он-то тут при чем? Но семь-один – счет, согласись, хороший. Так что на редакторов мне везло.
Везло-то везло, однако пресловутой “вольности” почти все они боялись пуще, чем Аракчеев с Бенкендорфом. Между тем, именно в ней, в балансировании на грани дозволенного (кем?) и состоит одна из прелестей моего занятия. Такое иногда получаешь удовольствие... Вот тебе один из самых вкусных примеров:
Оригинал: “...to borrow, and to borrow, and to borrow”.
(Перевожу дословно: “...одалживать, одалживать и одалживать”)
Перевод: “...буду жить долгами, как жил его отец, по словам поэта”
В английском тексте – издевательская переделка восклицания Макбета (“To-morrow, and to-morrow, and to-morrow...” – “Завтра, завтра, завтра...”). В переводе, как сам понимаешь, переиначена строка из первой главы “Онегина”. Любой редактор, сколь бы ни был он либерален, костьми бы лег, но такого не допустил. Этого переводчика спасло лишь то, что он был одновременно и автором переводимого текста – книги, называемой “Лолита”.
Кстати сказать, когда доходило до теоретизирования на темы перевода, этот же автор ратовал практически за подстрочник, уверяя, что истинным можно считать только буквальный перевод: “Скончавшийся под пыткой автор и обманутый читатель – вот неизбежный итог претендующих на художественность переложений. Единственная цель и оправдание перевода – дать наиболее точные из возможных сведения, а для этого годен лишь буквальный перевод, причем с комментарием”. А дальнейшее, полагал он, дело читателя.
* * *
Ты, верно, заметил, что последнее слово возникает здесь на манер припева, и, разумеется, не случайно. Я не хочу сказать, что мы с тобой трудимся исключительно ради удовольствия читателей. Трудимся мы, как тому и быть надлежит, ради удовольствия собственного. Пишем для себя, печатаем – теперь уж точно не для денег, потому что какие же это деньги? Прежнее миновало. Но и пиша (или пишучи?) для себя, все равно ведь помышляешь о том, кто это прочтет и что он затем про тебя скажет. Тот же Набоков говорил, правда, что у всякого настоящего писателя есть только один настоящий читатель – тот, которого он каждое утро видит в зеркале во время бритья. И все-таки хочется иногда повстречаться еще хотя бы с одним, благожелательным, осведомленным, не лишенным чувства юмора и вообще почти таким же умным, как ты сам, но не более того, более – это было бы не совсем для тебя удобно. Какое-то его отставание от тебя остается все же необходимым для подержания в тебе хорошего самочувствия. Обратившаяся в подобие мании потребность “увидеть своего читателя” заставляет нас присматриваться в вагоне метро к читающим людям – что они там читают? Уж не меня ли, Боже мой? Все ближе, ближе, сердце бьется, но мимо, мимо... ну, и так далее.