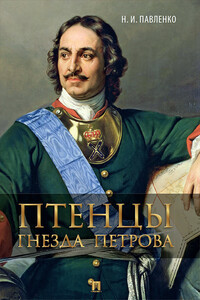Петр Первый и его время | страница 29
Осужденных развезли по разным районам столицы, все они были повешены.
Казнь второй партии обреченных состоялась 11 декабря.
Вся группа казненных, а их насчитывалось 144 человека, не подвергалась розыску. Стрельцов вешали не только на специально сооруженных виселицах, но и на бревнах, вставленных в бойницы Белого города. Через неделю — новые казни.
Столица долгое время находилась под впечатлением массовых казней. Трупы казненных не убирались в течение пяти месяцев.
В сентябре — октябре было повешено, обезглавлено и четвертовано в общей сложности 799 стрельцов. Жизнь сохранили лишь малолетним участникам выступления — юношам от 14 до 20 лет. В стрелецком розыске проявилась еще одна, на этот раз крайне неприглядная черта характера Петра — его неистовая жестокость. Но таков был век. Новое пробивало себе дорогу так же свирепо и беспощадно, как цеплялось за жизнь отжившее старое. Стрельцы олицетворяли косную старину, тянули страну назад и поэтому были обречены.
Стрельцы в глазах Петра являлись «не воинами, а пакастни-ками», и прежде всего потому, что они многократно не только «пакостили», то есть создавали препятствия на его пути к трону, но и покушались на его жизнь. Это они пытались преградить ему путь к власти в 1682 и 1689 гг. Это они казнили его родственников по матери во время бунта 1682 г. Неприязнь к стрельцам со временем переросла в фанатическую ненависть. Необузданный деспотизм сильной личности, оказавшейся победителем в этих столкновениях, завершился кровавым финалом — истреблением сотен стрельцов и фактическим уничтожением стрелецкого войска. Сказанным, однако, можно объяснить жестокость царя, но не оправдать ее.
После стрелецкого розыска царь отправился в Воронеж, чтобы взглянуть на верфь, где кумпанства строили корабли. Первое впечатление от увиденного оказалось обнадеживающим. «Мы, слава богу, зело во изрядном состоянии нашли флот и магазины обрели», — писал Петр в Москву. Впрочем, при более глубоком ознакомлении с делом обнаружились значительные недостатки в организации работ. Один из них, едва ли не самый главный, состоял в том, что согнанные со всех концов страны плотники и кузнецы жили в крайне тяжелых условиях: без крова в зимнюю стужу и осеннюю слякоть, со скудными запасами сухарей в котомках они валили лес, пилили доски, углубляли фарватер реки, строили корабли. Треть, а то и половина людей, не вынеся тягот, убегала с верфи. Молва о тяжелых условиях жизни в Воронеже разносилась по стране, и люди, подлежавшие набору на работы, хоронились в лесах, чтобы уклониться от мобилизации.