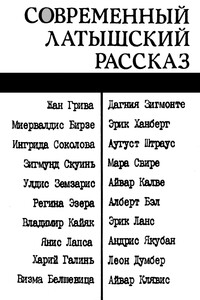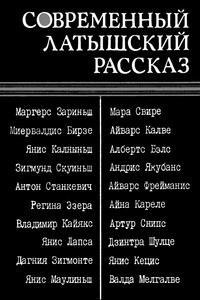Невидимый огонь | страница 54
— Она, по-моему, со вчерашнего утра не ела. И такая худая, прямо страх…
За окном опять что-то шуршит ли, стучит ли. Наверно, антенна от телевизора колышется на ветру — антенна, а может, и провод.
— …кожа да кости. Ноги как спички, Сомневаюсь, что она вносит за обеды. На родительском собрании завуч жаловалась, что из двух девятых классов обедают всего человек десять.
Молчание.
— Когда я звала ее ужинать, а она не пошла, я ей сказала: «Лелде, говорю, ты сегодня хоть что-нибудь ела?» Ела, говорит. Я спрашиваю — что. И знаешь, что она мне ответила?
— Ну?
— Семечки!
— Семечки?
— Да, тыквенные семечки.
Аскольд пожимает плечами.
— Не понимаю, Аврора, почему ты делаешь из этого чуть не трагедию. Моя бабка, правда, когда-то считала, что от тыквенных семечек заводятся глисты, но эта гипотеза, если не ошибаюсь, научно не подтвердилась.
Они смотрят друг на друга, он — за легкой усмешкой пряча досаду, что его отрывают, она — сомневаясь теперь, вовремя ли она завела этот разговор, именно сейчас, когда перед ними стопки тетрадей, но полная решимости поговорить о дочери, прийти к чему-то и действовать в согласии ли с мнением Аскольда, или вопреки ему, и Аскольд должен выслушать, найти время, уделить внимание, ведь он отец.
— Твоя ирония, Аскольд, совсем неуместна, — холодно говорит Аврора. — Глисты не глисты, но вообще… Кто знает, по каким они валялись карманам, какими руками их брали. Да еще в такое время, когда в Риге свирепствует грипп, который дает всякие осложнения…
— …как воспаление легких или менингит, не меньше, или того ужасней — брюшной тиф, эпилепсию или сифилис…
— С тобой невозможно разговаривать!
— Аврора, у меня еще пятнадцать сочинений, а на часах уже почти одиннадцать. В половине седьмого мне вставать. И поверь, у меня нет ни малейшей охоты пускаться в рассуждения. Тем более по вопросам, которые входят в компетенцию эпидемиологической станции.
Ну, что теперь? Продолжать в том же духе — вежливым тоном, не повышая голоса, обмениваться колкостями? Замолчать и в который раз смириться? Или поговорить прямо, без обиняков — начистоту, и будь что будет, так ведь тоже жить нельзя.
Она сама пугается своих мыслей; боже сохрани, только не это! Пока не перейден последний предел, за которым нет возврата и примирения, за которым ничего уж не поправить, не загладить, — только не это! Уж лучше неясность. Ведь кто-то же придумал эти слова — счастливое неведение? Пусть не всегда счастливое. И тягостное, и мучительное. И все же это лучше, чем жестокая, неумолимая правда. Лучше неясность — что там под повязкой, под пластырем, чем открытая рана.