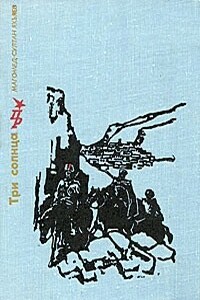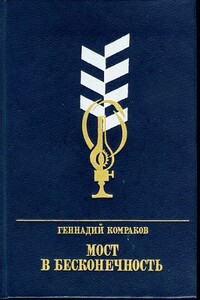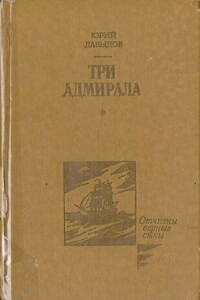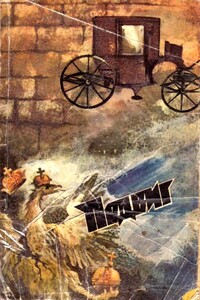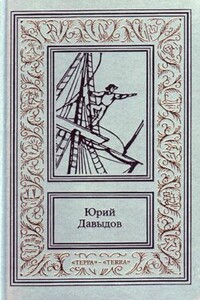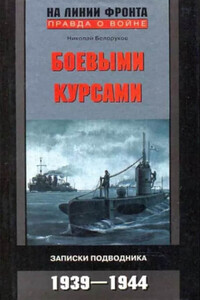Неунывающий Теодор | страница 7
Бурым, как бурак, был Каржавин-старший. А пишущий эти строки вопросительно поглядывал на него из темного уголка: кому сына-то поручаешь? Ты кого желаешь увидеть в наследничке? А? Знатока генеральной коммерции, чтоб в европах ворочал. Ну, и какого же воздействия на мальчугана ждешь от Ерофея-то Никитича? Будешь потом волосы рвать, себя не помня, учинишь безобразие в Кронштадте…
Каржавин-старший тем временем переломил гнев свой. Стали рассуждать о будущем Федином ученье. Ерофей Никитич, вдохновясь, начертал программу, включившую не только коллеж, но и Сорбонну. И начертав, привлек к себе племянника. Тот смотрел на дядюшку с немым ликованием. Василий Никитич посветлел: «Будь по-твоему, Ерофей. И тебе и Федюшке каждый месяц по пятидесяти рублев».
Ерофей Никитич встал и поклонился. Хотел было заверить старшего брата в искренней любви, но из давнего, детского всплыло — негоже младшему заверять в любви старшего. И парижанин завил старомосковским кренделем:
— Всегда, Василий Никитич, почту за счастье иметь оказию доказать преданность.
Василий Никитич растрогался, махнул рукой:
— Эва, «преданность»… Покамест нужда — «преданность», а вот вельможей станешь — забудешь. Зна-а-ем мы человеков, знаем, преданность — покамест докука есть, забота, а нету — фью-и-ть…
— Вельможей не стану, — весело ухмыльнулся Ерофей.
Каржавин-старший справил гардероп и брату и сыну. Потом ходил с Ерофеем — тот толмачом-переводчиком — на Ломбард-стрит, к негоциантам и банкирам. Василий Никитич не без выгоды сбыл серебряный лом и окатный жемчуг, а с купцом Горном условился о поставках шеффилдских стальных изделий, пользующихся шибким спросом в Петербурге.
Подступил день росстанный. На почтовом дворе запрягали коней дуврского дилижанса. Федя расплакался, Василий Никитич, дрогнув скулами, молвил: «Ероня, бога ради, не утрать ребенка…» Ерофей Никитич молитвенно прижал ладони к груди и, едва не всхлипнув, поклялся страшными клятвами беречь и холить племянника.
Пора было и Каржазину-старшему сниматься с постоя на Чипсайде. В последний вечер Дементьев, пряча глаза, покорнейше просил одолжить деньжонок. Ей-ей, вернет: сработает морские часы и получит двадцать тысяч фунтов. Василий Никитич почувствовал что-то вроде изжоги. Ох шаткий кредит, ох шаткий. Но не отказал, обещал выслать из Питера.
Простились на пристани. Было ясно, свежо, просторно. Дементьев всхлипнул. Потом долго махал шляпой. Горевал он, прощаясь с Васеной. Горюя, верил в скорую подмогу. Да и как не верить? Друг не обманет. А кто посмеется над другом, тот над собою поплачет — есть такая пословица.