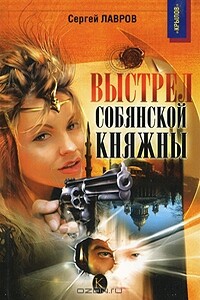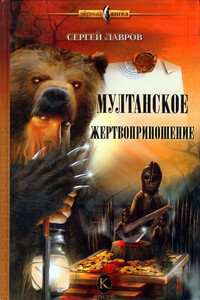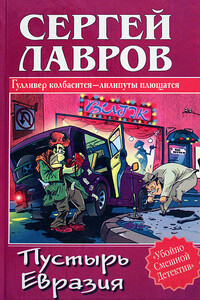Лев Гумилев: Судьба и идеи | страница 78
В отличие от В. Астафьева, не думали блокадники о сдаче города и в те дни, когда казалось – все кончено и вот-вот... Я был в Ленинграде до марта 1942 г., и ни в очередях за хлебом, ни в разговорах знакомых моих родителей (а это была вузовская интеллигенция, казалось бы, изначально «трусоватая»), ни в школе (а мы до ноября 1941 г. учились в Петровской школе – ныне Нахимовское училище) не слышал я подобных разговоров. Можно, конечно, объяснить это боязнью, но власть ругали отчаянно, не стесняясь; нажим органов был сильно ослаблен. Умереть, но не быть под немцем – это была не фраза, а настрой, практически всеобщий.
Ольга Берггольц писала тогда в письме к матери на Каму:
Я написал все это абсолютно искренне, но наивно было бы думать, что я знал тогда настрой 100% блокадников. Конечно нет. Так получилось, что, написав уже это, я наткнулся на текст блокадного дневника знакомого уже читателю Н. Лунина и понял, что я не прав... Вот запись 25 сентября: «На что «они» надеются, почему не сдают город?» В сентябре, замечу, было отнюдь еще не тяжело.
Я отлично помню, как ездил в поисках шахматной литературы на Литейный в букинистические магазины и на развалы; много книг появилось от эвакуированных. 26 ноября Н. Н. Лунин записал: «Какое количество должно умереть, чтобы город капитулировал?»203
Другие гордились 900 днями, верили в слова Вождя о русском народе, испытывали глубоко патриотичные чувства. Бравый зенитчик – недавний зек – Л.Н. писал еще под Берлином:
Патриотично было и руководство города; чего стоило хотя бы массовое переименование улиц – и это в январе 1944 г.! Сегодняшние «ревнители старины», уничтожающие память даже о Н. Гоголе и М. Салтыкове-Щедрине (за что?), могли бы вспомнить, что до января 1944 г. вообще не было Невского – был проспект 25 Октября, не было и Литейного – был проспект Володарского, Большой проспект Петроградской стороны назывался именем Карла Либкнехта и пересекался с бывшей Введенской, названной именем Розы Люксембург, и т. д. и т. п. Было переименовано, точнее восстановлено 20 исторических названий! Руководство города сделало это, не согласовав с Москвой, сделало до известных слов Вождя о великом русском народе. Оно тоже было захвачено эйфорией, а к тому же считало, что «свои» в Москве поддержат – А. А. Жданов, А. А. Кузнецов.