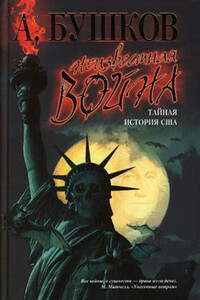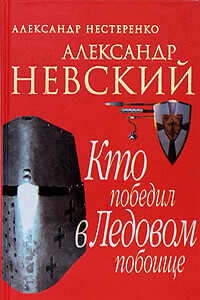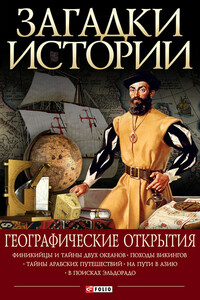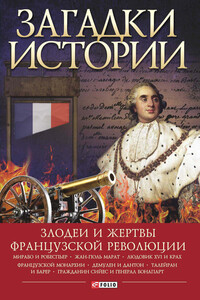Страна восходящего солнца | страница 73
Власти реагировали настолько быстро, насколько позволяло состояние дорог. Уже в январе фактически спровоцировавший восстание своей бессмысленной ретивостью и жестокостью даймё Мацукура отбыл из столицы в свою провинцию с войсками для подавления восстания, размах и характер которого он поначалу недооценил. Верховным главнокомандующим карательными войсками был назначен Итакура Сигэмаса. К февралю 1638 года он сосредоточил у замка Хара до 100 тысяч самураев, тяжелую артиллерию и флот – огромные силы, которые должны были быстро справиться с мятежом. Опустошив деревни Симабара и Амакуса, уничтожив всех, кто не ушел в замок Хара (в том числе маленьких детей), Итакура не добился желаемого – вместо того чтобы испугаться, «подлая чернь» еще больше обозлилась и решила стоять насмерть. Интересно, как сами повстанцы мотивировали свое поведение и причины, вынудившие их восстать, – в письмах, прикрепленных к стрелам, которые часто посылались из замка в лагерь осаждающих, речь шла сугубо о христианских мотивах: невозможности ранее свободно исповедовать христианство, надежде попасть в рай, защищая свою веру, и приверженности своему Пророку, Посланнику Небес Амакуса Сиро, власть которого – не от мира сего и выше власти сёгуна. Такая трактовка знаменитого «Богу Богово, а кесарю – кесарево» не могла не беспокоить власти, решившие преподать урок всем японцам, прежде всего тайным христианам, неимоверно жестоко подавив восстание в Симабара. Восставшие же, прекрасно понимая, что их ждет, по нашему мнению, намеренно не писали об экономических причинах восстания, также сыгравших немалую роль. Готовясь к славной смерти, вряд ли стоило говорить о рисе и налогах.
Решение отступить в замок Хара означало одно – восставшие надеялись только на помощь Небес, осознав невозможность победы и намереваясь подороже продать свои жизни. И это им удалось, несмотря на чудовищное неравенство сил. В первый день японского нового года, 14 февраля 1638 года, восставшие отбили массированный штурм войск сёгуната и достигли небывалого успеха, убив главнокомандующего Итакура. Следующий командующий, князь Мацудайра, мобилизовал колоссальные силы, и к марту замок Хара осаждали от 150 тысяч (по более умеренным оценкам) до четверти миллиона человек, которые вскоре начали страдать от недостатка провианта. Ни уговоры, ни провокации, ни голод, начавшийся в замке Хара к апрелю, не могли заставить восставших сдаться. Попытки вылазок из замка успехом не увенчались, как, впрочем, и обстрел замка правительственной артиллерией, и засылка в замок ниндзя. Сёгун в отчаянии даже обратился к голландцам, имевшим право торговать с Японией, и голландский капитан Кукебакер, похоже, вовсе не желавший войти в историю как пособник убийц христиан (пусть даже и нелюбимых им «папистов», католиков), для проформы сделал со своего корабля несколько бортовых залпов по замку Хара, что особо не повлияло на ход боевых действий. В конце концов 12 апреля начался общий штурм. Он был долгим и кровавым, продолжаясь целых два дня – дольше, чем большинство великих битв в истории Японии. Голодные повстанцы, у которых закончился запас стрел и пороха для аркебуз, отбивались яростно. В последние часы великой осады матери бросались в огонь вместе с детьми, мужчины совершали самоубийства или бросались на мечи врагов. Вряд ли поведение этих героев было сродни христианскому непротивлению злу насилием, но умирали-то они с возгласами «Сантьяго!», «Дзэсусу Кирисуто!» и «Санта Мария!». Даже даймё, участники подавления восстания, отмечали в своих дневниках, как поразил их героизм крестьян, умевших умирать не менее достойно, чем самые отважные самураи…