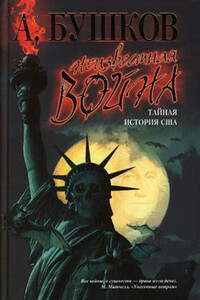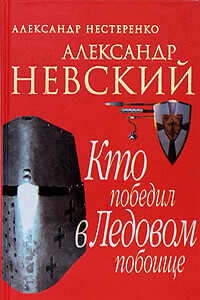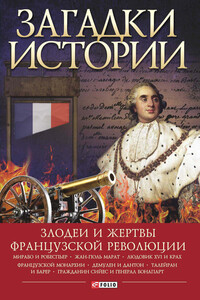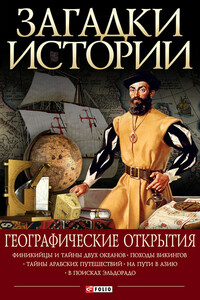Страна восходящего солнца | страница 63
Как только ситуация в Японии начинала «нормализовываться» во время относительно мирных периодов затишья или же долговременной стабилизации (при Токугава), правительство начинало прибегать ко все более жестким мерам против иностранцев и подрывных учений, к числу которых все увереннее относили христианство. По мере укрепления власти сёгуна и централизации страны был взят курс на самоизоляцию Японии от всего остального мира. Христиане, как представители чужеземной культуры, начали снова подвергаться гонениям. Так было при Хидэёси, то же повторилось и при Иэясу. Знаменем всей антисёгунской оппозиции, жаждавшей реванша за Сэкигахара, стал обделенный Иэясу сын его покойного господина Хидэёси Тоётоми Хидэёри, сплотивший вокруг себя все враждебные Иэясу силы, а центром – построенный его отцом грандиозный замок в Осака (резиденцией же Иэясу стал Эдо – нынешний Токио). Пусть на стороне Хидэёри и не было такого внушительного количества князей, как на стороне Западной армии в 1600 году, он сумел собрать солидное войско в 90 тысяч человек. В его составе были как довольно известные князья (в том числе христиане с Кюсю – Гото Мотоцугу, Кимура Сигэнари), среди них родной брат Ода Нобунага – Ода Юраку, так и огромное число людей, потерявших все с победой Иэясу, – ронинов, потерявших хозяев, мелких князей, лишившихся земли. Среди них было и много христиан, в том числе несколько иностранных священников. Иезуит отец Гирао, бывший свидетелем первой осады Осакского замка войсками Иэясу зимой 1614–1615 годов, писал, что в стане сторонников Хидэёри «было так много крестов, Иисусов и Сантьяго на их знаменах, палатках и прочих военных эмблемах, которые японцы используют при устройстве военного лагеря, что Иэясу должно было тошнить от всего этого». Чтобы разобраться в загадке «тошноты» сёгуна, нам придется вернуться на несколько лет назад.