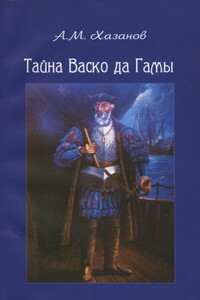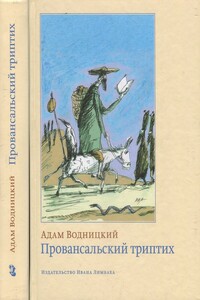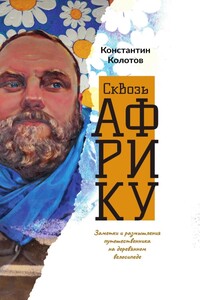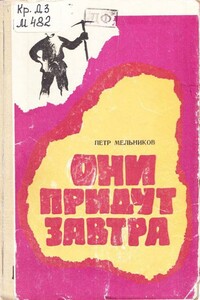Вокруг Света 1989 № 03 (2582) | страница 25
«А что, возьму и залезу!» — сказал я сам себе и стал натягивать сапоги.
Подъем на гору занял часа полтора; ноги дрожали и подвертывались на мокром грунте, гулкими толчками работало сердце. Иногда, чтобы удержать равновесие, приходилось цепляться за стволы сосенок и старые корневища. Выщербленная тропа, петляя среди скальных отрогов и высокой травы, вывела меня к вершине Тугая.
Пастух, слава богу, оказался на месте. Кряжистый, круглолицый человек неопределенного возраста, с прямыми черными волосами, свисавшими на лоб. Из-под лохматых бровей располагающе светились глаза. Мы познакомились.
— А почему Виктор? — удивился я, когда он назвал свое имя.— У вас что, своих имен не осталось?
Пастух повернул ко мне лицо и неодобрительно хмыкнул:
— Мать хотела Аржаном назвать, а власть запретила. Виктор, говорят, лучше. Тогда мода такая была...
Меня поразило, что речь его звучала на редкость правильно, почти без акцента. Я бы даже сказал, он произносил слова более чисто, с точки зрения русской фонетики, чем, скажем, житель Рязанщины или Верхней Волги.
— Что это за «мода»? — Как-то странно было слышать такое.
Пастух снова посмотрел на меня пристально, пошевелил усами, словно раздумывая, стоит ли изливаться перед незнакомым человеком.
— Директивные товарищи придумали, из города,— небрежным жестом он показал вниз.— Говорили: алтайские имена — это отрыжка национализма. А что такое национализм — я и сам не знаю. И ведь не на бумаге придумали, нет — за бумажку с печатью, если б такой указ вышел, у-у-у что было бы. А вот по телефону или в личной беседе — это можно. Устная директива называется.
— Кому директива? — не понял я.
— Председателю сельсовета — кому же еще! — удивился моей непонятливости пастух.— Вот он и решал, какого младенца каким именем записать: кого Виктором, кого Володей, а кого Илларионом. Мать рассказывала, что они, сельсоветчики, будто из хороших намерений такую директиву проводили: вот, допустим, говорили они, пойдет твой сын в армию или в городе жить захочет — его ведь там засмеют с алтайским именем! — Он покачал головой и усмехнулся.— Мы, алтайцы, народ покладистый, послушный. Что скажут, то и сделаем...
— Имя-то у вас европейское, а вещи предпочитаете свои, алтайские,— сказал я, обратив внимание на его халат из грубой шерсти, подпоясанный кожаным фартуком, и такие же кожаные сапоги с узким носком.
— Это еще что! — заулыбался польщенно пастух.— У меня еще аркыт с собой — кожаная посуда из лошадиной шкуры. Я в нем кумыс держу... А это арчамак,— он показал на кожаный бурдюк, перекинутый поверх седла.— Что такое чегедек, знаешь? — Обращение на «ты» я расценил как знак растущего доверия.— Чегедек — это женская шуба наподобие халата, только без рукавов и очень длинная, из овчины ее делали. После смерти мужа жена не имела права носить эту одежду. Но хоронили ее всегда в чегедеке; считалось, что покойница, встретившись со своим мужем на том свете, должна хорошо выглядеть... Так вот, эту шубу тоже «национализмом» считали. И что творили — у-у-у! Снимать заставляли чегедек и сжигали при всех сородичах.— Он махнул рукой и сплюнул: луноподобное его лицо покрылось сеточкой морщин и складок, резко обозначился рубец шрама на левой щеке. Только сейчас я смог определить, что моему собеседнику перевалило за пятый десяток.