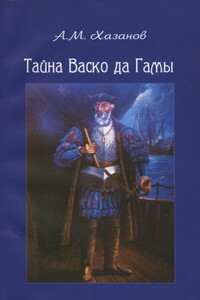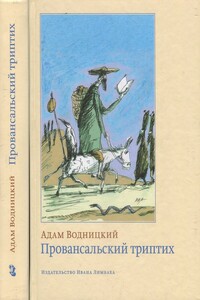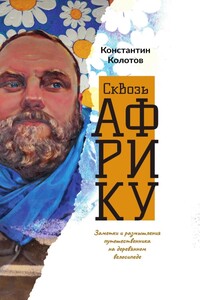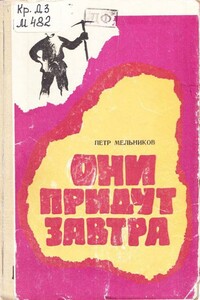Вокруг Света 1989 № 03 (2582) | страница 24
Было такое племя — алтай-кижи, жившее в центре горной страны. В 20-х годах нашего века под этим названием объединили все племена и роды, обитавшие под общей алтайской крышей. А было их множество: кумандинцы, тубалары, челканцы, телеуты, теленгиты, телесы. Тодоши, найманы, кипчаки и другие. Охотники, скотоводы-кочевники... Часть племен принадлежала к аборигенам Алтая. Согласно легендам их далекие предки создали когда-то мощное государство кочевников, оно существовало в VI—VIII веках и получило в истории название Тюркского каганата. Другие племена — пришлые; они в свое время вынуждены были покинуть исконные места кочевий и поселились здесь, под защитой гор, хотя продолжали платить двойную дань: китайскому императору — калан, русскому царю — ясак. В середине XVIII века, в период войны между Джунгарией и Китаем, группы различных племен и родов, спасаясь от истребления и ища покровительства у России, прикочевали к русской границе; тогда царское правительство переселило часть из них на Волгу, к калмыкам...
Но история историей, а сегодня представители различных в прошлом племен считаются алтайцами. Хотя сохраняют свое «племенное» наречие, свою мифологию и обрядовую культуру, свое самосознание. «И свои национальные обиды, претензии, амбиции»,— вспомнились мне резкие слова поэта Бронтоя Бедюрова, руководителя областной писательской организации, с которым я познакомился в день приезда.
— Что общего между национальным и национализмом? — спрашивал у меня Бедюров и сам отвечал: — Ровным счетом ничего. Здесь такая же разница, как между городом и огородом, государем и милостивым государем. Национальное обогащает и себя и других; чем больше даю, тем больше получаю. Национализм же губителен даже для той нации, среди которой он вырос.— Поэт при этом невольно улыбнулся.— Кстати, это не мои слова. Так сказал русский хороший писатель Тендряков...
И еще мне вспомнились прогулки по обезличенному Горно-Алтайску: сплошь и рядом русская речь, мышиных и болотных цветов пятиэтажки, утробные завывания рок-ансамблей из открытых окон и нераспроданные томики книг на алтайском языке... Конечно, что-то встречалось и в подлиннике — особенно в лицах, женской одежде, что-то осталось лишь в отголосках, посеяв в душе тревожную смуту: еще два десятка лет, и город не отличишь от десятка ему подобных, выстроившихся от Ленинграда до Владивостока...
Я смотрел в окно, в серый слезящийся прямоугольник неба с темными шапками облаков в правом верхнем углу, травил себя сомнениями — и не заметил, как налетел ветер и растрепал тучи. Мое окно выходило на вершину горы Тугая, которую я видел лишь в день приезда. И вот теперь эта гора вдруг ожила, задвигалась. Туман, цепляясь за верхушки сосен, поплыл в сторону, открывая праздничные, как домоткань, горные поляны. Из разорванных туч хлынули потоки света, и все, что раньше лишь угадывалось сквозь сумеречную хлябь, получило свою окраску и свои очертания. Гора выглядела вымытой и ухоженной. А на самой макушке эдаким незыблемым монументом застыл пастух на рыжей лошади, вокруг которого белыми валунами рассыпались овцы и козы. Мое настроение резко пошло вверх.