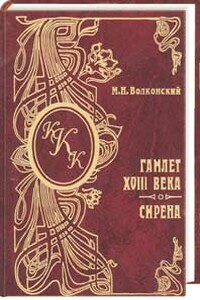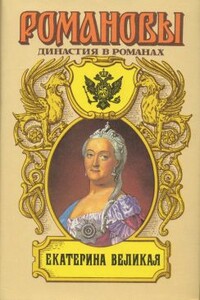Русский щит | страница 37
Не знали на Руси ни о будущих жертвах, ни о уже принесенных. Батыево нашествие без следа смыло с лика земли крепостицу Онузу, даже память о ней исчезла, и спустя столетия досужие историки будут только гадать, что именно означало это название — «Онуза». Город ли, урочище, древний могильник или просто луговину меж лесов, стеной стоявших вдоль невеликой реки Лесной Воронеж…
Глава 3
Удальцы и резвецы рязанские
Рязанское войско спешило на юг, к степному рубежу. Путь — привычный воеводам князя Юрия Игоревича, знакомый до малого мостика над пересохшим ручьем. В одном была разница с прошлыми годами — шли зимой, когда обычно степняки замирялись, и не одними конными дружинами, а всей рязанской силой.
Дорога ржавой лентой огибала курганы, спускалась в низины, взбегала на пологие склоны возвышенностей, сливаясь на горизонте с невысоким декабрьским небом.
Скорбно чернели кресты на обочинах.
Изредка попадались деревни — обезлюдевшие, тоскливые. Ветер хлопал дверьми брошенных изб, перекатывал клочки сена во дворах. Везде были заметны следы поспешного бегства: рассыпанное возле клетей зерно, бочки и лари, брошенные посреди улицы, сани с вывороченными оглоблями. Стронулась с места земля Рязанская.
Мужики, подхватив топоры и рогатины, ушли в города — становиться под княжеские стяги, биться с супостатами.
Бабы с ребятишками схоронились в землянках по оврагам или пробирались к Мещерской стороне, в непролазные лесные дебри.
Привычной была военная опасность для Рязанской земли, порубежной со степью. Промедлишь — пропадешь, поляжешь под кривой половецкой саблей или из вольного хлебопашца превратишься в полонянника, что горше смерти. В одну ночь, бывало, уходили в безопасные места целые волости, и половцы, прорвавшиеся через сторожевые заставы, находили опустевшие деревни — ни пограбить, ни полону взять. Даже собак уводили рязанцы с собой в леса, даже кошек уносили в лукошках.
Когда половцы отъезжали обратно в Дикое Поле, кошку потом первую пускали через порог в новую избу, рубленную на месте сгоревшей — для счастья, для домовитости. Собаку привязывали у тесового, пахнущего свежим лесом крыльца. Пусть лает, пусть все слышат: хозяин жив, хозяин вернулся!
Только старики — древние, неходячие — оставались порой в покинутых деревнях. Что с них возьмешь? Им все равно где помирать — свое отжили… И сидели старики — седые, негнущиеся, в белых смертных рубахах — у околицы, смотрели бесстрашными глазами на чужих всадников. И случалось, что не поднималась рука у убийцы-половчина, обходила смерть стороной.