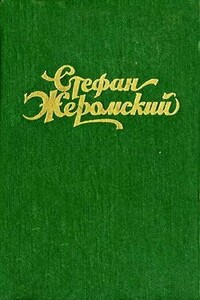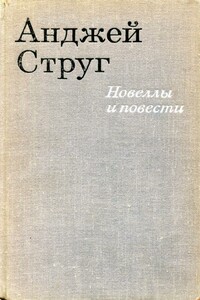Луч | страница 62
Глубокая скорбь охватила сердца присутствующих, но все трое сидели неподвижно, чувствуя, что они лишь бессильные зрители и не только не могут помочь словом или делом, но и судить не вправе.
— Что же делать, что делать, куда деваться, откуда ждать спасения? — в отчаянии воскликнул несчастный, срываясь с постели и раздирая на себе рубаху.
Пани Марта медленно приблизилась к его изголовью, опустилась на колени и, положив голову больного на подушку, стала вытирать платком его глаза и искривленные губы.
«Зачем я, глупец, принес эту книгу и зачем читал ее?» — спрашивал себя Радусский, пытаясь заглянуть в собственную душу, но мысль проваливалась в пустоту, а перед глазами вставала только черная бездна разверстой могилы.
Долгие чудесные дни мая пролетали для Радусского как часы. Не успевало забрезжить омытое росою утро, как наступала ночь, почти всегда бессонная, и тотчас снова всходило солнце. От ночных бдений и тревожного сна Радусский ходил как в чаду.
Видя, что пани Марта буквально валится с ног, он всячески старался заменить ее у постели больного. Он просиживал у них дни и ночи, а если отлучался, то лишь затем, чтобы часок поспать, пообедать и осведомиться у Гжибовича о газете. Не прошло и двух недель, как он сделался в семье доктора настолько необходимым человеком, что если бы ему вздумалось освободиться от своих добровольных обязанностей, это обстоятельство оказалось бы для семьи роковым, лишив ее возможности продолжать существование. Пани Поземская не оставляла своего места у изголовья мужа и по — прежнему спала возле него на полу; но домашними делами она уже не занималась, да и в уходе за больным исполняла лишь подсобную роль. Что бы она ни делала, ее движения, звук голоса, выражение лица и особенно тупой взгляд все чаще выдавали крайнее изнеможение, отвращение и равнодушие. Душевное мужество, сердечная преданность не ослабевали у нее ни на минуту, но руки и ноги, глаза и уши отказывались служить. Часто, проходя по комнатам с чашкой бульона для мужа, термометром или пузырьком лекарства в руках, она опускалась на первое попавшееся кресло или стул, ставила свою ношу на ближайший стол и тут же засыпала, вернее впадала в сонное забытье, мучительно короткое, прерывавшееся от малейшего шепота или вздоха больного.
Всем занялся Радусский. Если бы кто‑нибудь спросил напрямик, зачем ему все это понадобилось, он не сумел бы ответить, вернее, не мог бы выразить словами, что именно побуждает его предаваться подобного рода деятельности. Несомненно эта была любовь. Во всей этой истории было нечто, чему он самозабвенно отдал свое сердце. Но кого же или что он любил?