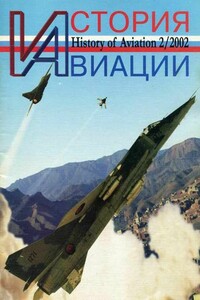История авиации 2003 02 | страница 77
Вообще надо сказать, что американцы умелые бойцы, но крепости духа им явно не хватало. Если в бою пилотам «Сейбров» приходилось туго, то они всегда уходили в сторону моря, при этом запросто могли бросить прикрываемые бомбардировщики и штурмовики. Так они поступили и тогда, благо были ничем не связаны. Мы не стали их преследовать и повернули домой, бой прошел удачно, и мы, уставшие и довольные, с победой возвратились на свой аэродром.»
Последнюю победу в сентябре 1952 г. Михаил Иванович одержал 29-го числа, и опять в бою с «Сейбрами», и, что характерно, в этом бою победу нашей группе, состоящей из летчиков 1-й эскадрильи 518-го полка, принесла удачная атака пары Михина: сам Михаил Йванович сбил одного «Сейбра» и подбил другого, а его ведомый Михаил Баннов сбил ещё одного F-86. У нашей группы в этом бою потерь не было.
За высокую результативность в сентябрьских боях и умелое руководство подчиненными в бою старший лейтенант Михин был представлен командованием дивизии к званию Героя Советского Союза. Так как к началу октября у Михина было на счету уже восемь сбитых и три подбитых самолета противника (в том числе семь «Сейбров»), Это бы лучший результат в дивизии! Но, увы, общая обстановка на ТВД была не слишком обнадёживающей, и это, видимо, достаточно ясно сознавали в штабе 64-го авиакорпуса, а потому представление на «Героя» Михаилу Михину «задробили», «компенсировав» его сразу двумя орденами (орденом Красного Знамени и орденом Ленина), а также досрочным присвоением воинского звания капитан.
После успешных сентябрьских боев у Михаила Йвановича наступил спад результативности — никак не удавалось долгое время одержать очередную победу в небе Кореи. Возможно, это был психологический надлом, наступивший после отказа вышестоящего начальства подтвердить представление на «Героя». Хотя советская пропаганда не уставала повторять, что «солдат в атаки шёл не за награды», однако приуменьшать их значение не стоит, поскольку они в значительной мере являются отражением доблести и славы 2*. Это, конечно, не означало, что Михаил Иванович стал осторожничать в бою или хуже воевать, все боевые задачи ведомые им летчики успешно выполняли, но самому командиру фатально не везло. Увеличить свой личный счёт капитану Михину, уже ставшему к этому времени командиром 1-й эскадрильи, не удавалось вплоть до мая 1953 г.
2* Некоторые фронтовики, прошедшие от Бреста до Сталинграда, потом дошедшие до Берлина с горечью вспоминали, как в 41-м и 42-м командование клало представления на награды «под сукно» до лучших времён, а то и отправляло прямо в «буржуйку». Мотивация была проста: «мы отступаем и потому награждать не за что». Понятно, что после этого у довольно многих, кто ещё вчера, не дрогнув поднимался со связкой гранат на вражеский танк, фигурально выражаясь, просто руки опускались. Однажды ещё в 70-е годы — я тогда был почти пацаном, отправившись на встречу ветеранов со свои дедом, спросил у его однополчанина, почему у него на кителе целых пять медалей «За отвагу»! Ответ был прост: за пять «языков», взятых за два месяца! К этому времени я уже довольно много прочитал книжек и имел представление, хотя и на элементарном уровне, чем и за что награждали. Поэтому я и задал следующий вопрос: а почему не дали хотя бы орден Красной Звезды (за трёх «языков» награждали орденом Отечественной войны II степени)? И опять ответ был простым: Ленинград был в блокаде. Потому и не дали… Зато потом, к 50-летию победы ордена Отечественной войны обеих степеней Горбачёв раздавал вёдрами. Награды, которые во время войны во многих случаях вручалась посмертной!), достались «за просто так» поварам, писарям, телефонисткам и картографисткам, безвылазно сидевшим в тёплых штабах и ни разу не бывавшим на передовой — Прим. Ред.