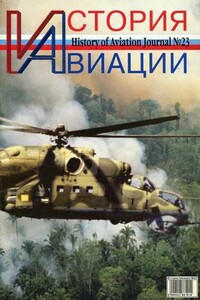История авиации 2003 02 | страница 45
В начале осени 43-го на остававшемся долгое время стабильным Черноморском театре стали происходить стремительные изменения. Связано это было в первую очередь с успешным наступлением советских войск на Кубани и Левобережной Украине. Противник покидал прибрежные районы, оставлял порты, его старые коммуникации отмирали, появлялись другие. В октябре был полностью эвакуирован Кубанский плацдарм, и почти одновременно войска 4-го Украинского фронта блокировали с суши Крым. 30 октября началась Керченско-Эльтигенская десантная операция войск Северо-Кавказского фронта, и почти одновременно началось наступление через Сиваш. Ударные силы фронтов, наступавших в предыдущие месяцы, оказались для этого совершенно недостаточны ни по численности, ни по подготовке. Расчет строился на том, что немецкое командование само будет эвакуировать Крым, а мы сумеем, ворвавшись «на плечах», нанести противнику новое поражение. Однако, почти точно так же, как в начале года это произошло на Кубани, решением Гитлера планировавшаяся сухопутным командованием эвакуация была запрещена, а сам полуостров объявлен «крепостью». Немцы и их румынский союзник заняли жесткую оборону, прорвать которую нам тогда не удалось, в этих условиях главной задачей Черноморского флота стала морская блокада Крыма, к которой в полном объеме привлекался и 5-й ГМТАП.
Особенно наглядно это видно из распределения самолето-вылетов по задачам. Из 186 вылетов, осуществленных за четвёртый квартал, 130 приходились на полеты торпедоносцев. На втором месте оказалось минирование (25 вылетов), на третьем (14) — ночные бомбовые удары по портам Крыма. Увы, решительный поворот минно-торпедной авиации лицом к морю не ознаменовался резким увеличением результативности авиаударов. Этому видятся две главные причины: во-первых, в условиях резко увеличившегося движения на коммуникациях в Северо-Западной части Черного моря немногочисленная разведывательная авиация не успевала обеспечивать торпедоносцы необходимыми данными. Парадоксально, на факт: на снижение успехов прямо повлияло перебазирование 36- го и 40-го авиаполков, а также части 30-го РАП на расположенный в Северной Таври аэродром Скадовск, состоявшееся в середине ноября. Только что наладившееся с ними взаимодействие оказалось нарушено. Решением командования в 5-м ГМтАП возобновилась «свободная охота», которая составила 88 — более чем 2/3 от общего числа вылетов. Результат был закономерен. В 71 случае самолеты возвращались, не обнаружив целей, 15 раз — из-за сложных метеоусловий, по 3 раза из-за отказов матчасти или противодействия истребителей противника. Именно интенсивное противодействие, оказывавшееся вражеской ПВО, стало второй причиной снижения результатов. Как и на Северном театре, наличие рядом с коммуникацией линии фронта, с находящимися вблизи нее аэродромами фронтовых истребителей, позволяло противнику усиливать воздушное прикрытие караванов на опасном участке маршрута тогда, когда у него возникало подозрение, что они могут подвергнуться нападению. Записи в немецких журналах боевых действий, как правило, дают достаточно правдивую картину полетов наших торпедоносцев, составленную на основании данных радиоперехватов. В результате, когда ударная группа, состоявшая в большинстве случаев из двух-трёх машин, оказывалась вблизи конвоя, на нее оказывались нацелены не только десятки стволов зенитных орудий, но и «Мессершмитты». Не удивительно, что, попав в подобные условия, наши летчики не спешили зазря расставаться с молодыми жизнями, а освобождались от торпед на дальней дистанции.