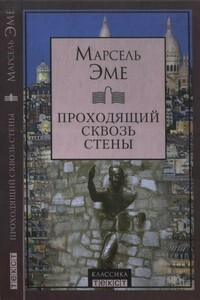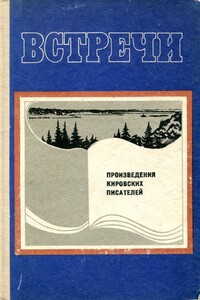Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 96
Ведь несмотря на тяготу и сдачи, на белого, расстрелянного под Черниговом, на девочку, облившуюся смертным потом и слюной, на месяцы и годы, Курбов являл высокую гармонию. Равновесие и точность химических весов. Как бы сверкал медными частями, вторым и третьим солнцем. Про таких писали прежде: олимпиец. (Например, огромный план вселенной, с точностью до миллиметра, который в парике и в туфлях с серебряными застежками прогуливался по уличкам заспанного Веймара.) Курбов был спокоен, светел, в слепоте играя роями глаз, как ночь; в жестокости уподобляясь желтому небесному образчику, изливая, как оно, живительную пагубу зноя. Когда в автомобиле, пугая волчьими глазищами и воем, он носился по ночной Москве, с невымирающими замоскворецкими лабазниками, с часовнями Пантелеймонов[40], ревностно хранящими густые запашки душегреек и кладбищенского ладана, с шелудивым юлением Тверских, — носилась просто воля в короткой куртке, и лабазники поспешно преставлялись, в распахнувшиеся двери часовни влетал озорной мороз, с морозом взвод курсантов, а разные Тверские забивались под комиссарские постели, с перепугу готовые шить всю жизнь кальсоны для Красной Армии. Воля. Поворот. Колесо под рукой.
И вот вчера воля затрещала, как будто она лишь сгнивший стол под локтем разгулявшегося Леща. Вздор! Редкая нелепость. И все же, в половине первого… Катя здесь ни при чем. Ну да, глядела, загибала уголки карт, смуглая рука и прочее. Гибель в нем. Ходил, чертил, не зная, что сам доверху начинен чем-то тягостным и страшным. Взрыв. Он в кольце. Как некогда Олег Глубоков. Встали, идут. Мокрота, и всё. Стихия — чужая, топкая, похожая на портяночную, курную, рыхлозадую Расею, обступающую главки, комы, разум. Это было в нем. Сам выкормил и не заметил. Гибнет. Скорей всего, уже погиб.
И падает карандаш. Подымает. Пересиливает, пишет: «Срочно… принять меры… твердость…» Пальцы твердеют: не выпустят карандаша.
Стук. Людмила Афанасьевна. Подойдя вплотную к Николаю, сразу, без предисловий, как во всех романах:
— Товарищ, понимаете ли вы, что такое любовь?..
Курбов вспыхивает. Ну, это слишком!.. Неужели выписано на лице?..
Но Белорыбова не замечает. Ей все равно. Ей нужно милого спасти, того, оставшегося дома, глупенького, мальчика еще. Не ждет ответа. Слова скачут, как недавно по улицам скакала сама Белорыбова, вперегонку, скорей, скорей. Все ночное обработано и претворено в трогательный рассказ. (Кто после этого скажет, что Людмила Афанасьевна лишена художественных возможностей, что она зря была записана в библиотеке?) Игнатов сам признался. Случайно втянут. Ужасные злодеи. Хотят через неделю въехать в Кремль. Особенно интересуются, кто какого звания. Сам Игнатов предан революции. Он еще мальчик. Она — должна сознаться — любит. Любовь не шутка. Товарищ, конечно, это знает. Умоляет его — пощадить. Он останется среди заговорщиков. Все выпытает. Сообщит через нее. А после, может быть, местечко, хотя бы внештатным или секретным. Но только чтобы паек — и с маслом. Отощал — необходимы жировые вещества. Умоляет. Любовь порой приходит поздно: ей двадцать пятый, и впервые, но когда приходит, это очень страшно. Страшней, чем пишут. Товарищ знает. Товарищ спасет.