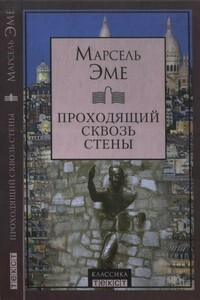Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 94
— Милочка, а ты какого звания?..
От неожиданности и непонятности вопроса Белорыбова даже всплакнуть хотела.
— Я?.. Я же тебе сказала — в особом Наркомпросе…
— Нет, я про другое… Прежде… Словом, дворянка или мещанка?..
— Папа служил в архиве. Кажется, дворянка…
— Я так и знал — породы не утаишь. Теперь слушай: недели через две твоему Наркомпросу крышка…
Это было грустно, даже в такую ночь. Людмила Афанасьевна печально поглядела на шкафчик, где хранились масло, колбаса и прочее приятное.
— Но почему?..
— Потому что прибудет законный престолонаследник. Я во главе. Я тоже въеду в Кремль. У нас двадцать тысяч «пятерок». Всех чекистов проклятых перевешаем на фонарях. Будут снова звания. Я учиню большой допрос.
От коньяку, от тропиков, а главным образом от объятий Белорыбовой накопилась страшная сонливость. В самый патетический момент она сразила Игнатова, и, зарывшись усами в телесные подушки, он уснул. Но не сон одолевал Людмилу Афанасьевну — ужас. Полюбив поздно, она зато крепко полюбила. Из слов Игнатова полудремотных поняла: готовится нечто роковое. Боялась не за себя: пускай повесят, она теперь познала любовь. Нет, за него. Он казался ей ребенком. Вот тихо, невинно дышит… Если бы не усы, подумать можно — ребенок. Хоть шесть пудов и сорок лет — нежнейшая, хрупкая игрушка, одуванчик, мотылек. Должна его беречь, ходить за ним. И вдруг опасность. В успех не верила: звания и наследник казались глупой сказкой, слышала о них когда-то девочкой. Теперь есть служба. Есть Чека. И это крепко, нетленно, вечно. Андерматов схватит милого, начнет допрашивать, товарищ Аш вытащит ножницы и продиктует Людмиле Афанасьевне: «К высшей мере». Не станет. И снова Венера превратится в машинистку, груди бесцельно будут течь, течь будут года. Нет, она не может!..
Щекотнула ласково Игнатова. Тот приоткрыл глаза. Сразу приступила:
— Милый, откажись. Ничего из этого не выйдет. Только расстреляют, а я одна останусь. Лучше день и ночь любить. Хочешь, я тебя устрою в нашем… особом… паек… дрова…
Игнатов возмутился. Даже вскочил и неприступно подтянул слезавшие на пол кальсоны:
— Никогда! Ве-рен престолу.
Но тепло, накопленное под одеялом, приманило (печка уж остывала). Милочка терпеливо ждала. Прилег и, повозившись немного, себя вознаграждая за прерванные сны, уснул.
Теперь Белорыбова знала — упрям, не переспоришь. Но как спасти? Была уже готова записаться сама в эту глупую «пятерку» (погибнут вместе), когда под утро пришла простая, но гениальная мысль. Она откроет все товарищу Курбову и выпросит за это, чтобы Игнатова, малосознательного (молод, случайно втянут в дело), простили. Может, даже его пристроят, на службу в том же отделе. Решив, едва дождалась девяти — вовсе не спала. Тихонько выволокла свои груди, оставив заместительницу — подушку. Затопила печку. Игнатов, оглушенный ночью, прихрапывал. Подумала, целуя осторожно хвостик уса, от храпа подрагивавший: «Милый, маленький, ведь он на службу еще не ходит, я его спасу от злых „пятерок“, устрою, усажу за стол — не спеша бумаги нумеровать и получать паек». Потом написала: «Возлюбленный! Я ушла на службу (опаздывать нельзя, вычитают). На столе для тебя бутерброды, съешь перед тем, как идти, чтоб не натощак. Приходи ко мне вечером. Твоя Венера». Записку положила ему на грудь и, еле оторвав глаза от этой выпуклой, объемистой груди, побежала на Лубянку, быстро, быстро, обгоняя толпы сотрудников с портфелями и с кульками, всех обгоняя, — спасать любовь.