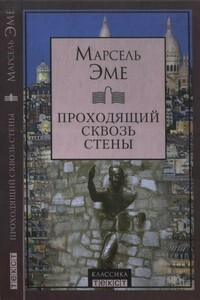Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 93
— Откуда у вас дрова?
Кокетливо улыбаясь, Белорыбова подкинула в печку, обрадованную даром, еще полено:
— Я служу в одном месте… то есть в Наркомпросе, только особом… там выдают…
Игнатов подумал: «Какой он симпатичный, этот Наркомпрос. Может, бросить всякие „пятерки“ и туда зарыться: тепло?» Но тотчас же осилил: пребудет верен законному престолонаследнику. Впрочем, поразмыслить как следует помешала Людмила Афанасьевна. Томная, упала на игнатовские колени, подбавляя к жару печки свой особый, тяжелый, влажный, как летняя испарина лугов. Игнатов, задыхаясь, пролопотал:
— Красо-ты! Вене-ра!
Это были именно слова, способные свести с ума Белорыбову: не «душечка» или «кошечка», а выспренность, поэзия, музей. Вспомнила открытку в магазине художественных принадлежностей на Арбате и вся заколыхалась: опознана, понята, живет.
— Милый, закройте на минуточку глаза.
Игнатов охотно согласился — и так смыкались от жара. Погрузился в горячие водовороты, которые его кружили по комнате, по рощам Бразилии, кидая с магнолии на колибри: маленькая птичка, но на ней шестипудовый бывший ротмистр взлетал к звезде, и птичка щебетала. Впрочем, это был не щебет, а скрип крючков и шуршание юбок.
— Теперь откройте.
Открыл. Но также и рот. Даже вздернутые гордо усы от богомольного умиления стыдливо поджали свои великолепные хвосты. Весь — экстаз. Перед ним, на маленькой кушетке, с нее стекая на ковер, в позе классической Венеры, совершенно голая, белая до ослепления, лежала Людмила Афанасьевна. Одной рукой, не забывая об открытке, она поддерживала грудь, но тело вырывалось широким водопадом и сливалось с бушующими валами живота. Это было неистовство огромной плоти, прорвавшей, наконец, плотины «исходящих» и «премиальных», юбок и любовных церемоний, готовой захлестнуть не только особняк, бывший князей Дудуковых, но и Москву, весь мир: потоп.
Игнатов молча обмирал, только раз икнув, и то скорей от свойств тараканьего коньяка. Обмирал, как Дрезденские немцы, налитые по горло пивом с пеной, перед «Сикстинской мадонной», забыв о поле и о прочем. Только когда Людмила Афанасьевна коротким, но густым, насыщенным вздохом подозвала, он упал, погрузился в огненную хлябь.
Час спустя усталая, но благодарная Венера подносила Игнатову бутерброды, масло капало, а колбаса потела. Обнимая Людмилу Афанасьевну, он поглощал их, один за другим — дивные плоды. Воцарилось особенное благодушие, доверчивая нега, те высокие и редкие минуты глубокого союза душ, когда даже зачерствелые циники способны на неожиданные излияния. А Игнатов был далеко не циником — скорей романтик. Даже в давние лета, когда, производя дознания, читал чужие любовные письма, даже тогда мечтал — вот кто-нибудь напишет и ему нечто поэтическое. Кокотки и влюбчивые дамы, вроде m-me Натанчик, его не удовлетворяли — они томили, как после ужина сальные, застывшие тарелки: скорей убрать. Теперь, напротив, перейдя от нечеловеческой страсти к бутербродам, умащенный двойным потом, он испытывал блаженство. Немудрено, что этой чужой особе он выложил свою заветную, героическую тайну: