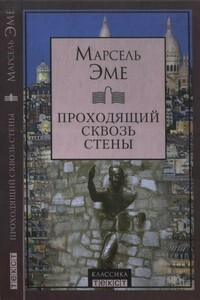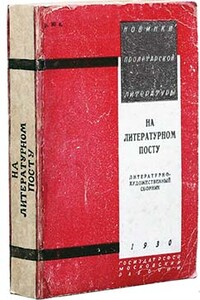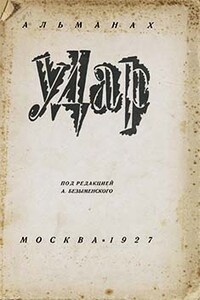Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 80
— Недостойная, как живешь? В мерзости — вот как! Златом искусилась, пайком, подсолнечным. Не только веры не защищаешь, но служишь гонителям, иудам, иродам — тьфу! тьфу! Спаситель, гонимый, ходит из града в град. А ты? Бумаги нумеруешь! С Богоматери сдирают последнюю рубашку, ризы с пречистых образов, китайцам на потребу. Знамения даны. Когда убиенный цесаревич лежал в пещере, кровью обливаясь, прилетела голубица, по-человечьему рекла: «Восстань и царствуй!» Унесла его на крылышках. В Тамбовской, под Успенье, объявилась. На лбу покаявшегося разбойника, вместо сатанинской звезды, загорелся животворящий крест. Когда к святым мощам прикасались святотатцы, шли с неба громы и стенания. Не слышишь, что ли? Или маловерка? Нет, слышишь, знаешь, но Господа нашего предаешь на поругание, благочестивых монахов, старцев, жен православных, младенчиков безвинных на страсти неслыханные, в чеку. Всё за паек. Изыди, несчастная!..
Катя не оправдывалась, не просила о пощаде. Встала. Вышла. Из бани — в морозный пар. Где-то на бульваре присела, не зная холода и ночи. Быстро, очень быстро в душе росло огромное и страшное, разрывая крыльями грудную клетку, когтями впиваясь в мясо, — почти физическая боль. В двадцать два года Катя оставалась все той же девочкой, считавшей когда-то нотариуса злым духом, а Владимира Кузьмича прекрасным демоном. Житейского, презренного, смешного в пророчествах Наума она не разглядела, не задумалась — зачем же Наркомнац? Духа политуры не разгадала. Да если бы поняла и разгадала — все равно сидела бы на бульваре, свою вину вынашивая. Верить мало. Нужны дела. И снова встало, на этот раз возмужав, захлестывая целый мир, искушение — отдать себя, погибнуть, изойти в любви. Вспомнила: два года — чужие обиды, шепоты, вздохи вокруг и рядом, как у вдовы Башмаковой реквизировали комнату и, сидя на приступочке, вдова плакала, как у Щедровых сына расстреляли, только карточка осталась — курносый гимназистик, как горевали монахини Девичьего — кельи оскверняют. И много щек заплаканных, изъеденных слезами, будто железо ржавью, слились в одно лицо, закапанное маслом в темно-синей спальне над мамой, скрестившей руки на груди. Нет, Катя меча не вложит, не простит!.. Даже если он, изгнанный из храмов, дрожащий где-то здесь, в снегах бульвара, даже если он попросит — не простит. Убьет.
Дальше — недели, месяцы. «Музо» и номера. В голове спирали сложных планов — кого? когда? и как? Одной не справиться. Что у нее? Руки и страсть. Хоть бы кто-нибудь пришел, направил, приказал. Пробовала заговорить с братцем Наумом, но тот, отнекиваясь, жаловался на ревматические боли, больше на пророка не походил: