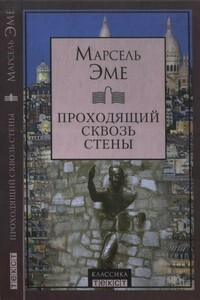Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 143
Дружески улыбаясь солнцу, отмахивалась Жанна от воспоминаний последнего года, особенно тяжелого: бегство, ночь в крестьянской телеге под соломой, теплушка — шесть дней в теплушке, какие-то осетины, хотевшие убить папу из-за одного брелока на цепочке, толчея в Ростове, тифозные вповалку на перроне, снова бегство, баржа, тонущие люди, шторм и, наконец, эти пустынные, угрюмые недели в Феодосии под рев пьяных казаков и северного ветра. Все это было. Но лучше думать, что этого не было. Лучше думать, что она уже во Франции, что это — не чудом выпавший теплый денек, а самая наизаконнейшая весна. Скоро в Париж! Жанна вслух по-детски засмеялась.
— Очень приятно в такое, с позволения сказать, собачье время встретить веселую дамочку!
Рядом с Жанной оказался рыжий плотный офицер в круглой бараньей шапке. Испуганно вскрикнула Жанна и быстро пошла дальше. Но пудовая волосатая лапа мигом пригнула ее плечо. Послышалось гадкое дыханье спирта.
— Пустите меня! Как вы смеете? Я иностранка! Француженка!
— Вот это особенно приятно. Вы себе и представить не можете, как мне надоело русское бабье! А француженка — ведь это же шик, кокотки, сплошной шато-де-флер[51].
Жанна оттолкнула весельчака, но поскользнулась и упала на склизкую землю. В то же мгновение она услышала чей-то чужой голос:
— Разрешите узнать, в чем дело, господин поручик?
Кто-то бережно помог ей приподняться. Перед ней, улыбаясь, стоял офицер. Но это был не ее обидчик. Все произошло с такой кинематографической быстротой, что Жанна от смущения, вместо того чтобы поблагодарить выросшего из-под земли спасителя, начала машинально чистить захватанное глиной платье. Незнакомец помогал ей, просто и деловито, как будто были они давними приятелями и гуляли вместе. Наконец, не вытерпев, он улыбнулся:
— Вы меня не узнаете, Жанна?
— Андрей?
Если Андрей и до этой минуты столь явно радовался неожиданной встрече, то теперь радость его должна была еще возрасти: на лице Жанны он мог без труда прочесть, кроме признательности и смущения, еще нечто другое — может быть, нежность?.. Значит, правда, она не совсем забыла его?
Пять лет тому назад, в последнее лето перед этой противной революцией, как будто нарочно сделанной, чтобы отнять у Жанны лучшие годы, на даче под Москвой познакомилась она с молоденьким студентом. Он тоже любил солнечный припек, звонкое «ррр» в стихах Гюго и приторные красные розы. А может быть, он только говорил, что любит все это, потому что на самом деле немного, смутно, скорее от возраста и нахлыни летней, неведомой еще нежности, любил эту смуглую, пугливую девочку, чужестранку-шалунью, по природе героиню, готовую в пятнадцать лет разыграть расиновскую Федру, дикарку, плакавшую тихонько от неудачно отданного поклона. Все это было давно. Если задуматься — в иной жизни, до великого переселения душ, пришедшегося на лето следующего года, когда переселялись не только души, но и тела и когда Россия заночевала, грозясь и плача, на крышах кряхтящих от натуги вагонов. Тогда он катал ее по царицынскому пруду. Кажется, раз, когда шли они в сумерках мимо дачных садиков, поблескивавших серебряными лунами шаров и дышавших левкоями, он поцеловал ее щеку. Может быть, этого и не было. Может быть, он только хотел это сделать, а нагнувшись, сказал что-то пустое и незначащее об игре в крокет. Они оба не знали, было ли это. В общем они мало думали о любви. Она входила в их жизнь наряду с любимыми книжками, крокетом и левкоями. Они были еще детьми.