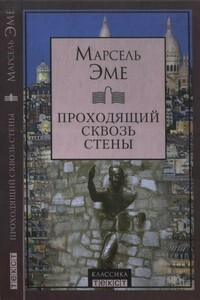Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 142
Еще Жанна радовалась, потому что папа сказал ей утром, развернув желтую куцую газету: «Ну, теперь крышка, скоро и отсюда придется убегать». Значит, скоро Париж. Там тоже тепло. Там всегда тепло. Там кончится этот дурной сон, который называется «Россией». Затянувшийся сон: шесть лет он томит Жанну. Но и теперь она так же боится его, как в то далекое февральское утро, когда тринадцатилетней девочкой, с букетом промерзших мимоз, поднесенных ей при расставанье хохотушками-подругами, вышла она на площадь перед Брестским вокзалом[50], увидала снег, тулупы баб, городового в башлыке, кричавшего на дохлого извозчика, а увидав это, расплакалась, несмотря на все увещевания папы, бормотавшего: «Это ничего… это богатая, это очень богатая страна».
Жанна боялась России. В ее представлении сливалось в одно: дикий климат, не погода, а именно климат, как в учебнике географии, неодолимые звуки «ща» или «ы», бараньи шкуры, кавалеры, во время вальса отдававшие водкой, генерал, на морозе пальцем в лайке вытирающий лиловый нос, блины, чай ведрами, то разнузданно икающие, то по-собачьи скулящие песни. До семнадцатого года еще удавалось спрятаться. Была розовая комнатка, где на секретере жил с Жанной томик Гюго, где в вазочке, наперекор окну, седеющему от дыханья России, розы из магазина Ноева не хуже самого Гюго говорили о милой Франции; была столовая, где папа, полоща рот кирпичным бордосским, каждый вечер с ровным пафосом читал передовицы «Journal des Débats», бесконечно похожие одна на другую; были люди, знавшие на память Гюго и предпочитавшие Арбату Елисейские Поля. Потом? Потеем произошло что-то странное, всеми различно называемое. Жанна воспринимала это по-своему; ей казалось, что Россия сразу разрослась, проглотила и розовую комнатку, и «Journal des Débats», и тех изящных молодых людей, которые присылали ноевские розы. Жанна ничего не понимала. Говорили: «Революция», но Жанна в школе учила французскую историю, революция тогда казалась ей скорее увлекательной: восторженные речи, вдохновившие даже Гюго, песня марсельцев, празднества, героическая смерть какого-нибудь храброго знаменоносца, идущего против коалиции. Но разве люди в варварских папахах, приходившие в квартиру Ней, чтобы наследить, чтобы прокурить махоркой комнату Жанны, чтобы перерыть ее комод или заглянуть в детский дневник, разве какие-то дежурства в подворотне дрожащих дам из домового комитета, разве карточки, с которыми надо было зябнуть в «хвостах», разве все это походило на стихи Гюго или на картину в Лувре, изображавшие революцию?