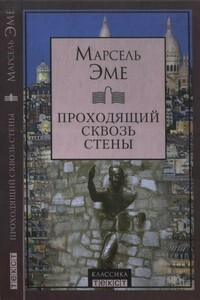Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 103
Сначала Курбов воспринимал ее слова как тот же сон, как нежное продление «Левунов» и прочего. Стеклянный шарик в детской ручке весело дрожал, хлопья порхали, была метель и где-то обрастали святочным снегом диккенсовские фонари. Но шар рос. Снежинки, слипшись, уже душили желтые, воспаленные глаза кремлевских окон. Курбов почувствовал: запахло бурей. Но, нежась еще, он знакомый запах обрядил в легенду: дитя!
— Мы должны убить крупного чекиста Аша или Курбова.
Здесь Курбов не выдержал — ласково усмехнулся. В детскую случайно заглянул: играют в индейцев. И с особой мягкостью, почти неловкостью взрослого, который хочет войти в такую игру, путается и робеет, спросил:
— А кто же организует?.. Ястребиный Коготь?..
— Высоков.
И это было концом. Четко выступили отвислые груди Свеклокуши, прыщи Чира, сало Ивана Терентьича, проступающее сквозь две фланелевые рубашки и пиджак, чашки, скамейки, грязь, плевки, на блузке Кати верхняя кнопка отстегнута, сейчас три четверти десятого, пришел по делу — допытать, и вот барахтается…
«Высокое!»
Уж не снежинки в шаре. Антанта. Деньги. Мерзость. Смерть. Надо пресечь, скорей, сейчас же! Схватить ее. Пойти за ней. Выследить. Ведь если дать таким ходить, целовать, бесноваться, убивать — всему конец. Это изъяны. Дыры. Черные, гнилые на снегу. Как грибы: только поплачет сверху — вскакивают, бухнут. Газ спертой, гранитом сдавленной земли. Загнать их снова в юродивые топи, в соломенную ерунду. Ну, Курбов!..
Катя почувствовала слом и выпад. Почему, не знала и не решалась спросить. Она дала ему волшебный мир, свою «пятерку», что же еще? Как сгладить эту страдальческую синь под серыми и серными, готовыми истечь огнём? Вспомнила лампадное масло: сухой судил, а навощенный золотел и миловал. Не рассудком, нюхом догадалась:
— Милый, все это не то… Не главное, второе… Сейчас одно: люблю.
Бедный Курбов! Как он ребячлив, как слаб, как молча, тихо гибнет, не вмешивая в хмельной, беспечный вздор «Тараканьего брода» своей звериной тоски! Что делать? Да, она права! Все это не то. И хуже: огромное, родное — все главки и учеты, тоже не то. «Сейчас одно: люблю». Так в маленькой девчонке — вся на ладони — больше силы, больше правды, чем в нем, обдуманном, вымеренном, безупречном. «Сейчас одно…» Но это «одно» — прекрасное для миллионов, для поэта и для токующего тетерева, для схоластика и для жадной лилии с исступленным пестиком и с вздрагивающими тычинками, для всех прекрасное, для него: позор, отказ, гибель. Он не может. Сам себя построил. Строил год за годом: Колю с микроскопом, Николая на митингах, Курбова в комиссиях. Строил для высокого и длительного горя: дать бешеной, разнузданной, расхлябанной земле великий строй. И сам теперь запутался в двух-трех словах, зацепился о горячее дыхание, упал. Нет, этого нельзя! И Кате вслух: