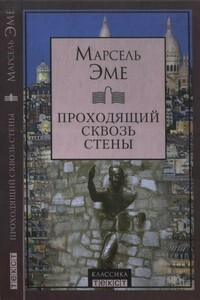Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 104
— Нельзя!..
Но ясно — этим не спасешься. Надо рубить. Если сам не может, ее заставить убежать. Дать ей ненависть, если в нем неистребима нежность. Пусть глупо для дальнейшего, теряет нити, выдает себя, — что делать? — он с изъяном. Пусть жестоко и пахнет мертвечиной, заглоданным младенцем, насильно затравленной любовью, что ж, ему не выбирать: он гибнет.
— Вы должны меня ненавидеть. Я не Захаров. Я — тот самый Курбов, которого… Поняли? Теперь идите. Готовьтесь с Высоковым. Я тоже буду готовиться… Кто-нибудь из нас погибнет… Прощайте.
Даже слов не разглядев — только голос, Катя встает. Какая маленькая, и еще согнулась! Плечи — вниз. Зуд в голове. Вот и пришла Лиза… Счастье отбирают. Его убить? Господи, за что же? Надо идти! Гонит. Милый! Чекист. Пытает. Высоков говорил, что он вбивает гвозди в тело. Серые мои, родные!.. Умираю… Идти. И Катя кидается в дверь, сулившую все, обманувшую, скрипящую: прощай! Чекист! Дверь упирается. Трясутся плечи. Ушла.
А Курбов занят одним — дыханием. Спасен. Может встать и сесть. Может даже выйти. И, не глядя на оскорбленного Ивана Терентьича, напрасно готовившего «номерок», выходит. Подмерзло. Скользит. Он будет жить. Он не погиб. Работать. Двигать дальше этот проклятый воз, с накиданным до неба жалким скарбом испорченных локомотивов, ленивых скаредных сердец, двигать, проталкивать в гулкие, просторные века, где воз очнется изумительным мотором или, снявшись с земли, гудя, взлетит. Толкать. Подгонять отставших. Утреннее, гнилое и мутящее, исчезло. Легкий морозец заштопал дыры, подчистил все.
На Сретенке остановился перед желтеющим стеклом. Когда-то магазин. Теперь клуб комсомольцев. Вошел. Полутемь. Какая-то лекция по космографии. На белом экране рождаются стройнейшие фигуры, напоминая: таким и ты родился, таким ты должен, слышишь, должен быть! Все остальное — нахлынь, произвол, случайные клубы облаков: выдохни немного ветра, прояснись! Ты — Курбов. Ты — как мы.
Экран темнеет, будто зимний день к четырем. Взамен встают другие звезды, пойманные, замкнутые в стекло, прирученные и вышколенные. В комнате оказываются молодые и задорные. Готовы взять тотчас же звезды с потолка, с экрана, с неба, заставить их стадами биться и звенеть по всем ухабам московских улиц. Курбова узнали. Гордость — к нам пришел! И — как маме кантату к именинам, — выстроившись в ряд, смущенно улыбаясь, затягивают «Интернационал». Потом, омытые своими же голосами, летящими подобно косому проливному дождю, забывают смущение, именины, даже Курбова. Идет здесь, в тесном магазине, после скучной лекции какого-то инструктора, с незримыми врагами: с сединой, с залежами книг, со временем, — «последний и решительный бой». Время (может, это седенький инструктор, верящий в диплом и презирающий все революции?), покашливая, уступает. Древний Хронос ползает в ногах. Еще одно «это есть наш», и он издохнет, просыплется трухой. Останутся лишь звезды в кулаках, голос, пролет.