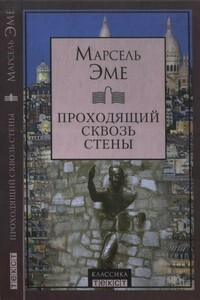Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 102
— Я тоже ждал вас. Очень ждал.
Это было правдой. Сейчас не помнил: зачем пришел. Заговор? Да, это было, но давно: некогда, до рабочих, топотавших в переулке, до сибирского детеныша, до мамы, приносившей к сундуку запах мыла и домашних слез, до всего — в угрюмом, преджизненном, ледниковом сне, под синей папкой, на Лубянке. Пришел увидеть. Уйти с ней. Пришел… И снова слово затопорщилось. Его необходимо было вытолкать наружу. Все время ведь молчал. Слово голое, пустынное, вслух:
— Пришел, чтобы погибнуть.
Здесь началось невнятное. Здесь Катя вся прояснилась последним светом, как будто было сказано «чтоб жить». Опознала свое, почти уютное, почти микстурное, и, немного поборовшись, ответила ему так, как никогда бы не сказала, даже не подумала бы, если б он, счастливый, смеялся, говорил, как счастлив с нею, если б он лежал в ногах, или, торжествуя, вел ее под руку, никогда, только сейчас. Сразу после темного «погибнуть» вдогонку ринулось высокое «люблю».
Курбов это понял. Не переспросил. Не смутился. Знал — иначе нельзя. Согнувшись, не глазами, губами нашел ее маленькую ручку, затерявшуюся в мехе, и к ней прижался, как к граниту. Долго дышал смолью, солнцем, донесенным сюда по хлюпающему снегу, от детства ли, от дачи, из которой зной высасывал сосновый дух, или, дальше, от случайно затесавшейся прабабки, от цыганки в кибитке, прожженной насквозь, так что даже гортанные призывы напоминали скрип сухого дерева? Дышал и ничего не ждал. Длительная пауза.
Даже тараканщики примолкли: так молчат, когда кто-либо рядом кончается или просто молится стеклянноглазому, чужому, но все же Богу. Было в этой общей тишине большое напряжение двух людей, готовых сейчас же, на месте, выстроить из спичечных коробок гигантские шагающие пирамиды или вместо строек изойти паром, вылететь на улицу, в прореху разбитого окна. Тишина начинена была тысячами шумов: от героических — выйти на Трубу и, кинув это сердце, взорвать миры до атомов, до счета дыхания умирающего, до журчания слезы, до хода, нарастания и отмирания травяной, незрячей жизни.
Только Иван Терентьич въедался в торжественную тишину своим юлением. Мигом забыв о прежних планах, страсти остудив, смиренно дожидался: потребуется «номерок», без этого не обойдется, надо только в подходящую минуту оказаться под рукой.
Паузу ликвидировала Катя. Почувствовав, что значил этот поцелуй, это молчание, широко, до холода в кончиках пальцев, распахнулась, как давеча, дверь. Открыто, без утайки, скрытой в уголочке, чтобы после можно было опомниться, утешиться, отчитаться перед самой собой. Нет, настежь. И что ему дать? Главное ведь вышло, выдышанное ходит вместе с дымом прд причудливыми трещинами потолка, и выше, под желтыми поспешными оттепельными облаками. Дала это «люблю», эту руку, эту тишину, что же дальше? Может, если бы женщиной была: мудро, легко и просто повела бы Николая за руку наверх, в мерзкий «номерок», перед этими Лещами, которые и усмехнуться бы не посмели, — такова любовь. Но Катя могла припасть и покориться, вести же не умела. Тогда встало: дать ему (даже не дать, почти по-детски — подарить) стеклянный шарик на мамином комоде с метелью в воде, — весь тот особый мир, страшный, прекрасный, призрачный, сейчас такой далекий и игрушечный, где гремел братец Наум и угрюмый Высоков говорил с уютцем о смерти, — подарить ему. Милый, бери, иди со мной вместе — розы головешек у нот, костер Жанны д'Арк и лик, обрадованный этим подарком двух жизней, того, второго, двойника — в углу. Катя заговорила.