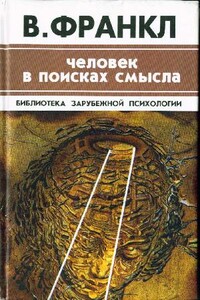Страдания от бессмысленности жизни | страница 52
Я уже говорил о том, что, по мнению Эйнштейна, любого человека, который полагает, что он нашёл смысл жизни, можно назвать верующим. Похожую мысль высказал и Пауль Тиллих, который дал такое определение религиозности: «Религиозность — это страстное стремление доискаться до смысла жизни». Вот что пишет о вере Людвиг Витгенштейн: «Верить в Бога значит понимать, что жизнь имеет смысл» (Дневники, 1914–1916). Во всяком случае, можно сказать, что логотерапевт, — хоть он и занимается прежде всего психотерапией, которая относится к области психиатрии и медицины, — вправе изучать не только так называемое стремление к смыслу, но и стремление к абсолютному, высшему смыслу, а ведь религиозность — это по сути и есть вера в высший смысл, упование на то, что жизнь имеет высший смысл.
Конечно, такие представления о религии не имеют ничего общего ни с конфессиональным догматизмом, ни с его порождением — религиозным доктринёрством, слепой верой в то, что Богу нужно лишь одно — чтобы в него верило как можно больше людей, причём в соответствии с догматами определённой конфессии. Лично мне не верится, что Бог настолько мелочен. И я не понимаю, зачем церковь призывает меня уверовать. Я же не могу уверовать или полюбить по собственной воле, не могу, вопреки своим убеждениям, заставить себя любить и уповать. Не всё можно сделать по собственной воле, а тем более по требованию или по приказу. Я ведь не могу рассмеяться по приказу. Чтобы я рассмеялся, меня нужно рассмешить.
Любовь и веру тоже нельзя себе внушить. Любовь и вера — это побуждения, которые возникают лишь в том случае, когда для них находится подходящий повод и объект.
Как-то раз одна американская журналист-ка брала у меня интервью для журнала «Тайм» и задала мне такой вопрос: не считаю ли я, что современное общество отпадает от веры? Я ответил, что общество отпадает не от самой веры, а от религиозных конфессий, представители которых только и делают что стараются переманить друг у друга паству. «Если так будет продолжаться, то, возможно, рано или поздно возникнет некая универсальная религия?» — спросила меня журналистка. «Нет, — ответил я. — Мы движемся не к универсальной, а, напротив, к индивидуальной, глубоко личной религиозности, благодаря которой каждый человек сможет обращаться к Богу на своём особом, сокровенном языке».
Разумеется, это никоим образом не означает, что совместные обряды и общие символы себя изживут. Ведь многие народы пользуются одним алфавитом, хоть и говорят на разных языках.