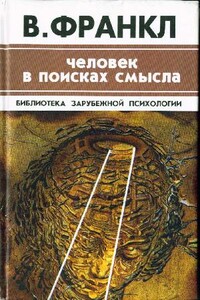Страдания от бессмысленности жизни | страница 51
Вот почему в рамках психотерапии не затрагивается вопрос веры в откровение, а проблема смысла жизни не рассматривается сквозь призму противопоставления религиозности и атеизма. Если трактовать религиозность не как веру в Бога, а как веру в некий высший смысл, то этот феномен вполне может быть предметом изучения и в рамках психотерапии. Ведь именно так трактовал религиозность Альберт Эйнштейн, который как-то сказал, что любого человека, определившего для себя, в чём заключается смысл жизни, можно назвать верующим.
Человеческая вера в смысл — это трансцендентная категория, как сказал бы Кант. Со времён Канта известно и то, что бесполезно пытаться мыслить вневременными и внепространственными категориями, поскольку в своих размышлениях мы уже исходим из того, что существует время и пространство. Так и человеческое бытие — это по определению жизнь ради смысла, даже если этот смысл самому человеку неведом. Человек изначально наделён своего рода интуитивным знанием смысла; этим наитием и продиктовано так называемое стремление к смыслу. Хотим мы того или нет, мы все от колыбели до могилы сознательно или безотчётно верим в то, что жизнь имеет смысл. Даже самоубийцы, которые не видят смысла жить дальше, верят в то, что если не жизнь, то хотя бы смерть имеет смысл. Если бы самоубийца считал всё бессмысленным, он не был бы способен ни на что, даже на самоубийство.
Мне доводилось видеть, как убеждённые атеисты, которые, казалось бы, всегда наотрез отказывались верить в «высшее существо» и в высший смысл жизни, на смертном одре, при смерти подавали окружающим такой пример, какой не могли подать при жизни, — пример безмятежности, не только противной их убеждениям, но и не поддающейся никакому рациональному объяснению. К умирающему приходит какое-то прозрение, какое-то понимание, а с ним и безграничная вера во что-то неведомое и в кого-то неведомого, вера, которая сильнее знания о неминуемой смерти. Об этом же толкует Вальтер Байер: «Впомним, что писал Герберт Плюгге о надежде. Когда человек неизлечимо болен, ему объективно уже не на что надеяться. Будучи в ясном уме и трезвой памяти, он должен отдавать себе отчёт в том, что обречён. Но он не теряет надежды до самой смерти. На что он надеется? На первый взгляд может показаться, что он надеется на исцеление в этой жизни, но под этим покровом таится сокровенная трансцендентная надежда, глубоко коренящаяся в самой природе человека, ибо человек просто не может существовать без надежды на грядущее воздаяние, в которое он верит не под влиянием церковных догматов, а в силу своей естественной склонности».