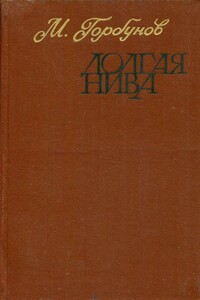Белые птицы вдали | страница 76
Таким она и запомнила отца — в нестройной колонне, идущей к воротам средь запыленной, помертвелой зелени, мимо тихой, ушедшей к облакам школы. Что-то обреченно виноватое было в его прощальном жесте.
Ночь была свежа, ветер слабыми порывами беспризорно толкался в заборы, прибивал к ним сухие листья и пепел, только этот слабый, больной ветер жил в пустой тишине, которая стояла над городом. Только этот сухой, с запахом гари, ветер, потому что люди — все, кто остался в городе, — не жили: то, что должно было принести утро, мертвило сознание и душу. Никто не спал, оголившая город тишина давила своей грозной очевидностью: два месяца за городом не смолкала канонада, непрерывно, будто вдали работала какая-то таинственная машина, пульсировала под ногами земля, и люди привыкли к этому, и у них была надежда, что город устоит, и потому они жили. Но вот уже второй день, как воцарилась тишина, означавшая только одно: город пал и наутро сломившая его чужая адская сила будет властвовать в нем…
Тихо, тревожно было и во дворике на Соляной. Обитатели его после ухода на войну Константина Федосеевича и Василька — вскоре за ними с заводом Артема, куда она пошла работать, эвакуировалась и Зося — напоминали осиротевший выводок, обычно собиравшийся вместе возле домика дяди Вани, на лавочке, где они с Марийкой когда-то коротали время за веселыми представлениями. Дядя Ваня иногда садился на кровати, оглядывал в окошко этот выводок: как-никак он был единственный мужчина и считал своим долгом пусть не оградить его от беды — тут он был бессилен, если бы даже свершилось чудо и он встал на ноги, — но хотя бы наставить и вразумить.
Дядя Ваня требовал вестей.
— Немцы подходят к Киеву, — говорили ему.
— Не верю! — Он тяжело, со свистом, дышал, судорожно рассыпая табак, свертывал самокрутку, жадно затягивался, и от этого дыхание становилось тише, ровнее. — Поверили! — укорял он женщин. — Паникеры в штаны напустили, мелют со страху хрен знает что, а вы слушаете.
— Немцы под Киевом, в Голосеевском лесу, — убеждали дядю Ваню.
— Что?! — гремел он в окошко так, будто сбившиеся на лавочке женщины повинны в какой-то преступной лжи. Сидевшие тут же мать-Мария и мать-Валентина коротко обметывали себя крестным знамением, то ли пораженные страшной вестью, то ли испуганные криком дяди Вани, а он от этого зверел еще пуще. — Божьи птички — с них спроса нет. А вы-то? Антонина, Зинаида! Вы-то подумали, что говорите?!