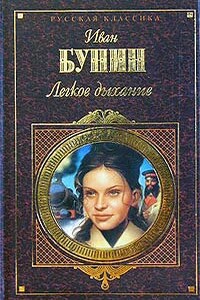Офицерша | страница 46
— Сына? Сына я учить желаю! — закричал в свою очередь Гаврил.
— Может, в емназию повезешь? — ядовито усмехаясь, вставила слово Марья.
— Не ваше дело! Захочу и в гимназию отдам!
— Ну, так и я своих девчонок в Марьянскую желаю… Как хошь! Филипповна охала, металась по избе, уговаривала, стонала:
— Господи! Грех-то какой… Господи Исусе, умири ты их сердце!..
Гаврил ушел в горницу, и ссора затихла, не перешла в драку, чего боялась мать.
Но пришлось офицеру подчиниться — ехать пахать и даже Зальяна запрячь в плуг. И когда в первый раз надел Гаврил чирики, намазанные дегтем, и серый зипун отцовский, старый, заплатанный, да поглядел на себя в зеркало, он чуть не заплакал… Вот она, жизнь, которая рисовалась такой милой, легкой, нарядной, — вонючая сбруя, лохмотья, пыль, грязь… вечные свары, брань, работа до гробовой доски и непрестанный страх, как бы чего не упустить, не опоздать, не издержать лишнего, мечта ухватить где-нибудь, потаясь от людей, грошовый пустяк… Ни умыться, ни одеться прилично, ни провести время в приятной, образованной беседе…
Поживешь тут — замажешься, одичаешь и станешь таким же, как все, неуклюжим, грубым человеком, и заветною мечтою будет мысль о новых ременных вожжах да о пятаке с двумя орлами, чтобы обыграть партнеров по орлянке…
Пахали всю неделю бессменно вдвоем с Варварой. Пахота была нудная. Зальян горячился, и первое время быки не успевали за ним. В первый же день от тесного хомута на левом плече у него оказались побои. В четверг шел дождь с ветром, протекла ветхая крыша старой польской хатки. Ночью быки ушли балкой в кумылженский юрт, и на другой день Гаврил до полден ходил, искал их.
Все это наполняло душу бессильным раздражением и злобой. Работа спорилась плохо, и Гаврил жестоко сек скотину, бил норовистого киргиза, кричал с зверски вытаращенными глазами: «Зарежу!» Два раза побил и Варвару — раз за то, что пересолила кашу, в другой — за неуместное замечание, что он не может наладить как следует плуга и зря бьет скотину…
Замечание было досадное, но правильное. Работа требовала сноровки, терпения, любви и жадности к ней, а он делал ее с отвращением, ничего не видел в ней, кроме мозолей, грязи и удручающей усталости: к вечеру гудели утомленные ноги, отнимались руки, и иной раз, не дождавшись ужина, он засыпал как убитый на грубо сколоченной кровати в тесной польской хатке, пахнущей глиной и дегтярной сбруей.
Сны переносили его в иную, приятную жизнь, в прежнюю полковую обстановку, и сердце билось так радостно, когда поставщик фуража Яков Исаевич, с приятнейшей улыбкой, пожимал ему руку, и после этого пожатия он, Гаврил Юлюхин, чувствовал в своей ладони бумажку…