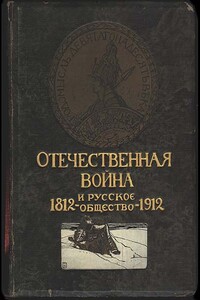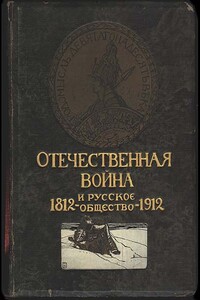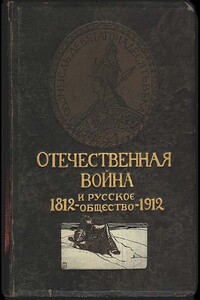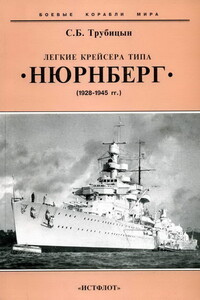Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том V | страница 19
Личные несчастия, впечатления действительности, все те наблюдения, которые пришлось сделать князю Андрею во время его постоянных сношений с военным начальством, во время свиданий с Аракчеевым, со Сперанским, перевертывают его прежние мнения о войне, и война, о которой в разговоре с Пьером после вечера у Анны Павловны он отзывается, как о чем-то неизбежном, необходимом, как о деле, в котором он сам может найти исход из неприятностей петербургской жизни, оказывается, накануне Бородинского сражения, уже «самым гадким делом в жизни». И еще до Бородинского сражения, до нашествия французов, но после вынесенных впечатлений от войн и наблюдений над русскими порядками он говорит тому же Пьеру, что после Аустерлица ни за что не пойдет служить в армию…
«В начале зимы (1811 года), князь Николай Андреевич Болконский с дочерью приехал в Москву. По своему прошедшему, по своему уму и оригинальности, в особенности по ослаблению на ту пору восторга к царствованию императора Александра и потому антифранцузскому и патриотическому направлению, которое царствовало в то время в Москве, князь Николай Андреевич сделался тотчас же предметом особенной почтительности москвичей и центром московской оппозиции правительству».
Графиня Лаваль.
Появилась «оппозиция», пока еще не вполне определившаяся и охотно выбирающая своим центром отживающего князя «старого века». Это — детство и наивность, конечно, но нет уже прежней безмятежности и доверчивости, хотя нет еще и тех вполне определившихся упреков и требований правительству, тех организованных протестующих сил, которые явятся позднее.
Люди с более развитым критическим умом, с деятельной мыслью видят настоятельную необходимость и неизбежность коренных общественных переустройств, — одни во имя справедливости, другие во имя духовных интересов того сословия, которое, по их мнению, является единственным носителем человеческого достоинства. «Ну, вот ты хочешь освободить крестьян, — говорит князь Андрей Пьеру. — Это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь) и еще меньше для крестьян. Ежели их бьют, секут, посылают в Сибирь, то я думаю, что им от этого нисколько не хуже.
В Сибири ведет он ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на теле заживут, и он так же счастлив, как и был прежде. А нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе раскаяние, подавляют это раскаяние и грубеют от того, что у них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко и для кого я желал бы освободить крестьян… Так вот чего мне жалко — человеческого достоинства, спокойствия совести, чистоты, а не их спин и лбов, которых сколько ни секи, сколько ни брей, все останутся такими же спинами и лбами».