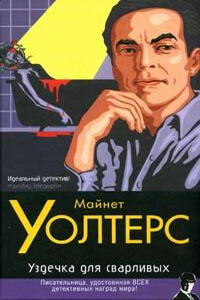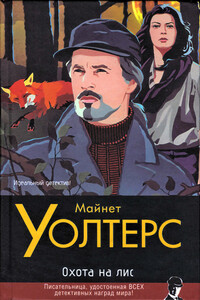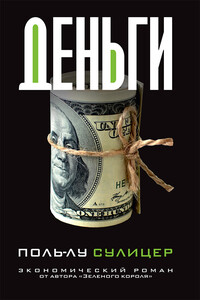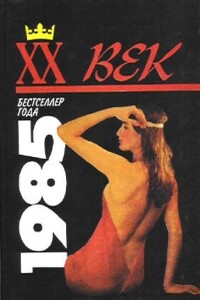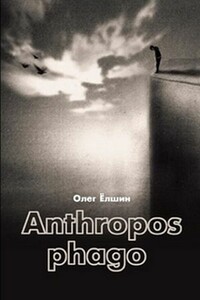Ориан, или Пятый цвет | страница 28
Ориан вышла на кухню и вернулась с двумя чашками кофе на маленьком перламутровом подносе. Она не могла оторвать глаз от волевого кщошеского лица, на которое перенесенные страдания словно надели маску. Давид разговаривал без видимого волнения, но чувствовалось, как он напряжен. Но момент еще не настал: что-то в нем говорило, что нужно оставаться сильным, владеть своими эмоциями, что еще рано позволять себе открывать шлюзы, сдерживающие его горе. Все это произойдет позже, когда он будет один и немножко окрепнет для того, чтобы погрузиться в траур. Молодой человек сделал несколько глотков горячего кофе. Не заставив себя просить, сам начал рассказывать Ориан все, что знал. В следователе сыграл профессионализм, и она, попросив его остановиться на минутку, принесла блокнот и ручку.
— Не хотелось бы, чтобы ты записывала, — заметил Давид.
Ориан почудилось, что она слышит голос его отца, интонации Александра, и от этой преемственности, выразившейся в голосе сына, у нее защемило сердце.
— Как хочешь, Давид. Я слушаю тебя.
Он глубоко вздохнул и начал с самого тяжелого, камнем лежавшего на его сердце.
— О моем отце говорили ужасные вещи. Что он был педерастом, обманывал маму, впадал в депрессию, много пил. Все это ложь. Уж мне-то известно, каким он был. Его что-то заботило — это правда.
— А что именно, ты знаешь?
— Думаю, все началось с Бирмы. Но мне тогда было только двенадцать лет и я увлекался лишь филателией. Там чудесные марки с изображением слонов, ступ и будд. Меня почему-то интересовали ступы. Помню, он пришел домой бледный, осунувшийся, расстроенный. Таким я его никогда раньше не видел. Кажется, я впервые ощутил, что от него исходит чувство страха. Мама попросила меня уйти в детскую. Я попытался подслушать у замочной скважины, но родители ушли в сад. За ужином я понял, что папа немного отошел, чувствовалось, что с него свалилась какая-то тяжесть. Он улыбался мне, потом мы все вместе играли в домино. Ночью я долго не мог уснуть: мне все виделось его непривычное лицо. Я слышал его шаги на веранде. Встав с постели, я на цыпочках спустился вниз. Папа разжег свою трубку и спокойно курил. Заметив меня, он что-то быстро убрал в карман халата. Я ничего не сказал. Он погладил меня по голове и объяснил, что иногда жизнь взрослых очень осложняется и сейчас он жалеет, что ушло то время, когда он коллекционировал марки. Особенно нравились ему колониальные с сенегальскими стрелками и изображениями футболистов. Дня два-три спустя мама сказала мне, ч-то мы уезжаем из Рангуна. Это меня удивило, потому что был февраль и до сих пор мои родители всегда совмещали свои переезды с окончанием занятий в школе. Однако я промолчал. Через месяц мы уже были в Либревиле. Папа казался спокойным, но после случая в Бирме, мне кажется, тревога уже не оставляла его.