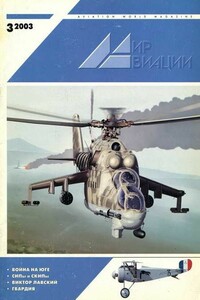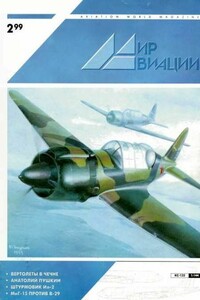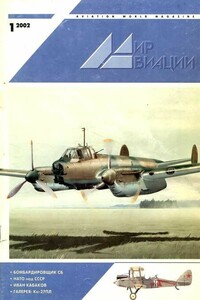Мир Авиации 1999 03 | страница 31
По вернемся на год назад. Этап А испытаний (общий облет и снятие характеристик, выполняемых, в основном, ОКБ) была завершена в декабре 1978 г. Л весной следующего года в ПИП ВВС приступили к проведению этапа Б. Приемную комиссию возглавлял заместитель командующего ПВО маршал авиации Евгений Савицкий.
Как и в случае с МиГ-25, с началом серийного производства МиГ-31 испытания и доводки его интенсивно продолжались. В испытания включились летчики-испытатели ОКБ Анатолий Квочур и Роман Таскаев. Доводка опытной техники подразумевает элемент риска, отказы и другие ЧП. Испытания МиГ-31 не были в этом смысле исключением. В одном вылете на фюзеляже появились усталостные трещины. В другом при полете на малой высоте на сверхзвуковой скорости двигатели вошли в режим виброгорения — разрушились обе форсажные камеры.
Анализ летных происшествий дал возможность конструкторам внести необходимые изменения. Собственно говоря, испытания для того и проводятся. Однако, было бы несправедливым не отдать должное летчикам- нспытателям, квалификация и мужество которых помогала конструкторам быстро решать возникавшие проблемы. Летчики до последнего старались сохранить поврежденную машину, при счастливом раскладе — сажали ее. Кроме того, самолет при испытаниях подвергается экстремальным нагрузкам, но тем же нагрузкам подвержены и сидящие в нем.
Следует особо отметить тот факт, что летно-конструкторские испытания столь революционной машины прошли без людских потерь.
В начале 1980 г. этап Б программы испытаний был в основном завершен, что и зафиксировал Акт приемки. Решено было поставить несколько МиГ-31 в действующий полк ПВО для проведения войсковых испытаний. Документ о принятии МиГ-31 на вооружение ПВО появился в мае 1981 г., однако окончательный Акт приемки на тот момент не был подписан, и реально поставки самолетов в полки начались только в 1982 г.
Рассказывая о МиГ-31, никак не удается уйти от параллели с МиГ-25. История доведения обеих машин, их «детские болезни» очень схожи.
Но правильнее, видимо, было бы говорить о том, что правило это справедливо для всех без исключения вновь создавемых летательных аппаратов.
Испытатели ОКБ МиГ (слева направо) Леонид Попов. Валерий Меницкий. Александр Гарнаев. Сергей Хазов и Павел Власов Фото С. Скрынникова
На восьмом серийном самолете (б/н 303, с/н 0303, пилот Валерии Меницкий, штурман Виктор Рындин) произошел отказ из-за дефекта топливной системы — на одной из магистралей разошелся шов. Несмотря на то, что топливо иод давлением хлестало прямо в двигательный отсек, пожара не произошло. Это в какой-то мере можно объяснить тем, что на крейсерском режиме корпус Д-ЗОФ-6 нагревается меньше, чем, например. корпус Р15БД-300 (двигатель МиГ-25). Топливо уходило быстро. В 25 км от аэродрома на топливомере появились цифры остатка — 500 кг. Меницкий приказал Рындину катапультироваться. Тот отказался: "Или вместе — туда, или вместе — туда!» Когда двигатели остановились, до аэродрома оставалось еще более десятка километров. Насосы гидросистемы не работали, и экипаж садился только на гидроаккумуляторах. Меницкий направил самолет на запасную полосу, выпустил шасси, и лишь немного не дотянул до бетонки. МиГ сел на грунт, а затем, снеся бетонные столбики ограждения, вкатился на ВПП. По словам ведущего инженера Э. К. Кострубского, даже в этой экстремальной ситуации «пила» Меницкого (график работы РУСом) оказалась близкой к идеальной, он работал ручкой спокойно и плавно. Каждое движение РУС — это расход зарядки гидроаккумуляторов, и задергайся летчик хоть немного — он бы не долетел.