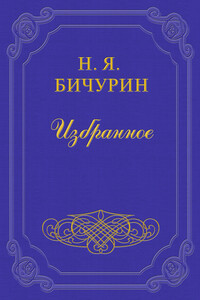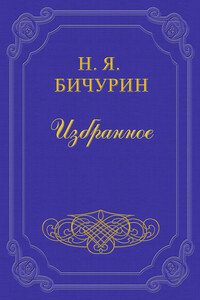Письма | страница 7
Н. Я. Бичурин занялся углубленным изучением Китая, с этой целью («для окончания трудов в переводе историй, географии и других мелких сочинений») просил синод оставить его на следующее десятилетие. За это время ученый проштудировал пространную историю Китая в 270 томах, статистику в 18, энциклопедию в 20 и словарь в 6 огромных томах, перевел десятки томов китайских текстов всего 17 названий. (Основная часть опубликованных Бичуриным китайских переводов сделана именно в годы его пребывания в Пекине.)
И вот 15 мая 1821 г. члены девятой духовной миссии двинулись из Пекина в сторону России. Караван 15 верблюдов вез 12 ящиков книг на китайском и маньчжурском языках, ящики с рукописями, красками и шесть трубок с картами и планами (заметим: в один ящик [11] вмещалось более 20 томов истории Китая!). Это имущество главы миссии весило около 400 пудов!
По пути домой Н. Я. Бичурин вел дневник, внося туда не только наблюдения, но н свои настроения и чувства. «Когда взошел я на самую высшую точку гор,— писал он 25 мая 1821 г.,— то справа открылась предо мною обширнейшая, глубокая, усеянная холмами долина. В горных падях начинали образовываться легкие туманы, а в низменных местах уже представлялись обширными разливами. На левой стороне в отдаленности запада синелись мрачные утесы дальних хребтов, в которых терялась Великая стена, поворотившая отселе на запад. Большая дорога постепенно опускалась к северу гористыми местами, но средние холмы застенали подошву гор. Долго я стоял на подоблачной возвышенности и с удивлением рассматривал отдаленный окружности. Как свободно здесь сердце! Как чисты и возвышенны мысли! Тонкий воздух не тяготит чувств: дух легко погружается в сладостное размышление».
После долгой разлуки впервые увидев земли России, Иакинф не смог удержать свои чувства: «Благословенный край!— говорил я в радостном упоении чувств,— ты первый приветствуешь меня после долговременной разлуки с отечеством!»
Какое нежное и святое это слово «отечество»! Оно призывает нас к подвижничеству, исполнению своего сыновьего долга. Но подвижники — народ честный, гордый, не терпящий унижений, отсюда и мало приспособленный к дипломатической борьбе. Поэтому во все эпохи «подвижничество — это всегда драматизм, коллизия, конфликт, сопротивление движения — рутине, света — тьме, честности — комформизму» (Правда, 1988, 18 апреля).
Колоссальная трата энергии Бичурина в работе над китайскими переводами в высших кругах не получила соответствующей оценки. Его подвижничество осталось не только невостребованным, но осужденным. Униженный и оскорбленный таким обращением к себе архимандрит предпочел гордое молчание, не удостоив ответом вопросы суровых членов синода (к тому времени среди них не было его защитника Амвросия). Как пишет Н. Адоратский, «высшее духовное начальство строго отнеслось к о. Иакинфу и подвергло его наказанию главным образом за противление власти, выразившееся в его отказе дать какие-либо объяснения на обвинения его в разных проступках».