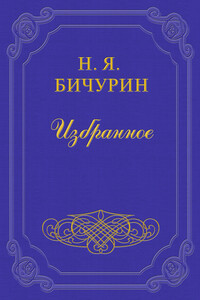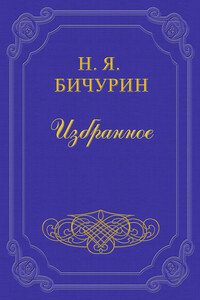Письма | страница 6
В Пекине глава Российской миссии усердно стал заниматься своей миссионерской деятельностью: переложил на китайский язык и напечатал краткий катехизис, в церквах миссии постоянно отправлял богослужение. В первые пять лет, когда имелись средства, дела и хозяйство миссии шли благополучно. Но к 1812 г. миссия не получила из России серебра па следующее пятилетие. «Очутившись в таком безотрадном положении,— писал по этому поводу историограф миссии Н. Адорацкий,— члены миссии стали требовать от начальника миссии жалованья. Чтобы сколько-нибудь удовлетворить их петициям, он стал распродавать лишнее и закладывать монастырские земли, дома и другие вещи. Когда и эти ресурсы иссякли, в заклад пошли и вещи церковные».
Болезнь, а потом и смерть двух членов миссии, серая повседневность — все это отрицательно сказывалось в поведении членов миссии. Через некоторое время сошел с ума один из иеромонахов. «Действительное от сей болезни средство состоит в деятельной жизни,— писал в своем донесении глава миссии в 1810 г.,— но упражнения, свойственные человеку неученому, нельзя найти в нашей уединенной жизни здешней».
В то время сам архимандрит вел весьма деятельную жизнь. «Не хваля себя, могу сказать,— писал глава миссии в письме от 14 августа 1810 г.,— что живу я здесь единственно для отечества, а не для себя. Иначе в два года не мог бы и выучиться так говорить по-китайски, как ныне говорю». Овладев китайской разговорной речью в течение четырех лет, он составил китайский «словарь вещей с русским произношением и переводом», изучил десять тысяч иероглифов. Но это было лишь началом, первым подступом к Храму науки. [10]
3. Прозрение подвижника
В одном из писем из Валаамской монастырской ссылки Н. Я. Бичурин признался, что в начале жизни он вел себя «весьма рассеянно», в чем и раскаивается. Но уже с 35 лет (1812 г.) «избрал для себя известные правила», которым с тех пор следовал постоянно.
В чем заключалась суть этих правил?
Биограф ученого Н. Щукин объяснял это так (очевидно, он передавал воспоминания самого Иакинфа): «На седьмом году пребывания в Пекине о. Иакинф стал переводить, по совету учителя, четырекнижие (сы-шу) с объяснениями и, к величайшей радости, узнал, что книги эти суть ключ к уразумению китайской учености; тогда же открылась необходимость знать китайскую историю, географию и статистику».
Если раньше филологические увлечения архимандрита вытекали из его прямых должностных интересов («содействование умножению в иностранном государстве церкви Христовой»), то теперь он занялся светскими познаниями, наукой. «Кроме истории, географии и медицины,— писал ученый в 1816 г.,— сколько других предметов, могущих обратить внимание иностранца и любителя древности... Сколько бы открылось новых явлений, если бы пройти здешнюю медицину и ботанику. Здесь давно прививают оспу... поэзия китайская имеет свое стопосложение, по ударениям располагаемое... риторика содержит свои правила для сочинений, и сии правила имеют некоторое сходство с нашими...»